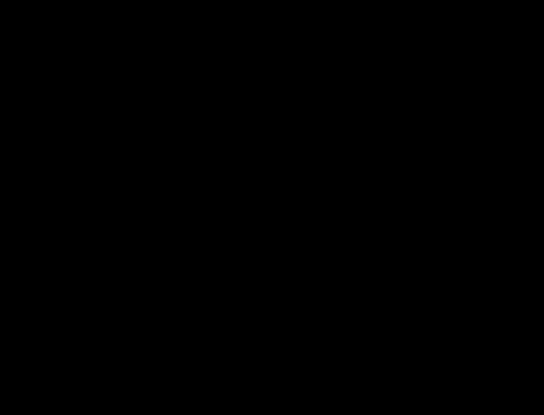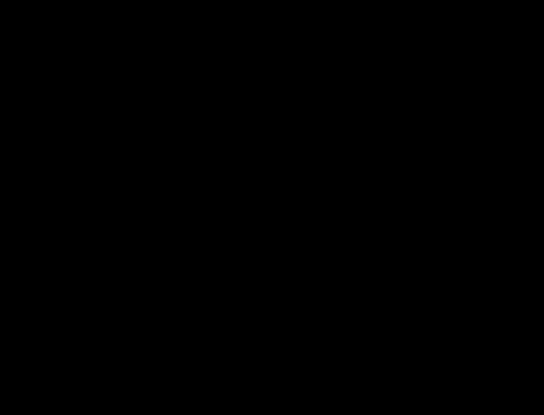Глава восьмая
Обучение славе - Исключение из
Мадридской Академии изящных искусств
-Дендизм-Тюрьма
Чтобы справиться с обилием всего нового, что хлынуло в наш
дом, отец решил завести толстую тетрадь, в которую заносил все,
что касалось моих дел. По этому случаю, он написал предисловие,
предназначавшееся, разумеется, для потомков. Вот его полный
текст:
Сальвадор Дали и Доменеч, начинающий художник.
За двадцать один год забот, тревог и усилий я увидел наконец
своего сына готовым определиться в жизни. Отцовский долг - не
такое уж легкое дело, как кажется. Уступаешь во всем, позволяешь
превзойти себя и отказываешь себе во всех желаниях. Мы, родители,
ни за что не хотели, чтобы сын полностью отдался Искусству, к
которому был предрасположен с детства. Я по-прежнему считаю, что
Искусство - это не способ заработать на жизнь. Это лишь
развлечение души, которому можно предаваться на досуге. Добавлю -
мы, родители, были убеждены, что художнику трудно войти в число
первых. Мы знали, сколько горечи, печали и разочарования несет в
себе неуспех, и делали все возможное, чтобы убедить сына заняться
другой свободной профессией по своему выбору. Но после того, как
он стал бакалавром, надо было признать очевидное: его призвание
рисовать было сильнее всего. Не считаю себя вправе препятствовать
столь очевидному призванию, учитывая к тому же "умственную лень",
проявленную им во всех иных сферах. Ныне я предлагаю своему сыну
компромисс: пусть поступает в Мадридскую Академию изящных
искусств и проходит весь необходимый для получения звания
профессора живописи курс. Обладая этим званием, он сможет
добиться академической должности, которая обезопасит его от
всяческих материальных затруднений. Тогда он сможет полностью
посвятить себя Искусству, и я буду уверен в его будущности. К
тому же он сможет вести творческую жизнь без финансовых
неустройств, ожесточающих неудачников. Ныне я обещаю приобретать
моему сыну все, в чем он материально нуждается, чтобы завершить
свое образование студента. Эта огромная обязанность для меня,
поскольку я не располагаю значительным состоянием и все расходы
покрываю из заработков нотариуса. А каждому известно, что
нотариусы в Фигерасе не загребают деньги лопатой. Сейчас мое дитя
посещает занятия в школе, невзирая на препятствия, зависящие не
от него, а от отвратительной организации наших образовательных
центров. Официально он учится хорошо. За два года он занял два
первых места, одно по Истории Искусств, другое за "Этюд с цветам-
и". Я пишу "официально", потому что он мог бы учиться лучше, но
увлечение живописью отвлекает его от основных занятий. Почти все
время он проводит, рисуя для себя самого картины, которые потом
отсылает на выставки. Приобретенный им успех превзошел все мои
ожидания. Я, вероятно, предпочел бы, чтобы эти успехи пришли
позже, когда он будет обеспечен должностью профессора, и таким
образом избежит обязательных искушений. Написав эти строки, я
слукавил бы, утверждая, что успехи моего сына мне не по душе.
Даже если мой сын не станет профессором, меня достаточно убедили
окружающие, что его творческая направленность - не ошибка. Любая
другая карьера рискует увенчаться провалом, ибо он чувствует себя
одаренным исключительно в живописи.
Эта тетрадь содержит также документы о годах его пребывания в
коллеже, об исключении из него и времени, проведенном в тюрьме, -
они представляют интерес для тех, кто желал бы видеть в нем
гражданина. Я веду записи каждый день и делаю это впредь, пока
буду в силах, собираю все - хорошее или плохое, что имеет к нему
отношение. По этим страницам можно понять истинную цену моего
сына как художника и гражданина. Пусть тот, кто вооружится
терпением, прочтет все и беспристрастно рассудит.
Фигерас, 31 декабря 1925 года.
Сальвадор Дали, нотариус.
Мы приехали в Мадрид с отцом и сестрой. Экзамен в Академию
изящных искусств заключался в выполнении рисунка по античной
модели. Моя модель была копией Бахуса Джакопо Сансовино. Надо
было уложиться в шесть дней. Моя работа шла нормально. Но на
третий день отец, ожидая во дворе, пока я выйду, поговорил со
смотрителем и тот выразил опасение, что меня не примут.
- Я не знаю, - сказал он, - насколько хорош или плох рисунок
вашего сына, но он нарушил экзаменационные правила. Там ясно ук-
азано, что рисунок должен быть во всю величину листа. А ваш сын
сделал его таким мелким, что незаполненное место вряд ли
посчитают полями.
С этой минуты мой отец перестал жить. Он не знал, что
посоветовать мне: рисовать заново или продолжить начатое невзирая
ни на что. Во время прогулки и вечером в кино он непрестанно
повторял: "Найдешь ли ты в себе отвагу начать все заново?" И
после долгого молчания: "У тебя осталось три дня". А мне
доставляло даже какое-то удовольствие мучить отца. И все же его
страх передался мне. Перед сном он сказал:
- Постарайся выспаться и ни о чем не думать. Чтобы завтра
принять решение, ты должен быть в отличной форме.
На другой день я не раздумывая стер прежний рисунок. Но лист
бумаги, который вдруг стал чистым, как бы парализовал меня. Мои
конкуренты работали четвертый день и уже начинали штриховать
тени. Еще сеанс - и работа их завершена, останется только
отделать детали. Чтобы стереть рисунок, мне хватило полчаса.
Усилием воли я вновь взялся за работу. Но оставшегося времени
было мало, чтобы набросать контуры нового рисунка - не пришлось
бы стирать также и его.
Отец ждал у входа.
- Ну, что у тебя получилось?
- Я все стер.
- И как идет новый рисунок?
- Я его еще не начинал. Только стирал и примеривался. Надо
точно знать, что я нарисую на этот раз.
- Ты прав, - ответил он, - но примериваться два часа - это
слишком долго. У тебя остаются два дня.
Каждый раз за столом он заставлял меня есть.
- Кушай получше. Ведь завтра тебе надо быть в форме.
Мы были раздражены. Моя сестра тоже выглядела неважно. Отец,
мучаясь от мысли, что не надо было стирать рисунок, за всю ночь
не сомкнул глаз ни на минуту. На следующий день я начал работу,
даже не взглянув на модель, которую знал назубок. И только к
концу сеанса я понял, что рисунок получился чересчур большим и на
листе не поместятся ноги модели. Это было еще хуже, чем оставить
слишком большие поля. Я стер все еще раз.
У выхода я встретил отца, мертвенно-бледного от тревоги.
- Ну как?
- Слишком крупно! - ответил я.
- И что ты будешь делать?
- Я уже стер его.
Слезы выступили в его серо-голубых глазах.
- Ладно, сказал он, как бы уговаривая сам себя, - у тебя еще
целый сеанс завтра. Сколько раз ты делал рисунки меньше чем за
два часа!
Но я-то знал, что это не по силам человеку, ведь нужен был
один день для эскизов и еще один для теней. Все было испорчено.
Мой отец тоже знал это. Как мне вернуться в Фигерас с позором,
мне, который был там первым Месье Нуньес уверял, что меня примут
на ура, даже если мой рисунок окажется одним из самых
посредственных.
- Если ты не сдашь этот экзамен, - сказал отец, - то из-за
моей ошибки и по вине этого дебильного смотрителя. Зачем он вм-
ешался? Если твой рисунок был хорош, какое значение имели разм-
еры?
Я зло ответил:
- Я тебе говорил об этом! Хорошо нарисованная вещь видна
сразу.
- Но ты же сам признал, что рисунок был слишком мелким, - с
сожалением возразил он, накручивая на палец прядь волос.
- Я не говорил, что он был слишком мелкий. Я только сказал:
мелкий.
- А я подумал, что ты мне сказал: он слишком мелкий. Может, и
такой подошел бы? Укажи мне его точные размеры, чтобы я понял.
Вот тут-то я его помучаю.
- Мы столько обсуждали размеры, что мне трудно вспомнить
точно. Мне кажется, что мой рисунок был в самый раз, мелкий, но
не слишком.
- Попробуй все-таки вспомнить. Он был такой?
И отец показал мне вилку.
- Разве я сравнивал мой рисунок с гнутой вилкой?
- Представь себе, - спокойно сказал он. - Посмотри на этот
нож. Вот такого размера?
- Кажется, да, а может, и нет.
- Так да или нет? - в бешенстве потребовал он.
- Может, да, может, нет.
Отец взад-вперед ходил по комнате в тревоге и ярости. Он
бросил на пол кусочек хлеба и встал на колени:
- Он был маленький, как этот хлеб, или большой, как этот
зеркальный шкаф?
Сестра заплакала - и мы пошли в уже знакомый кинотеатр. В
антракте все обернулись посмотреть на меня, как на что-то
необычайное. Я выглядел как переодетый актер: трость с
позолоченным набалдашником, бархатный пиджак, волосы, длинные,
как у женщины, бакенбарды, наполовину покрывшие щеки. Две девочки
рассматривали меня с раскрытыми ртами. Отец забеспокоился:
- Скоро мы уже не сможем никуда пойти с тобой. Стоило отпуск-
ать волосы и отращивать бакенбарды, чтобы вернуться в Фигерас с
поджатым хвостом.
Уже второй день его голубые глаза смотрели горько и устало.
Он уже даже не накручивал на палец прядь белых волос, которая
сейчас торчала как рог и воплощала всю его муку. Следующий день
начался хмуро и сулил полное поражение. Я был готов ко всему.
Никакой провал не мог быть хуже тех минут, что мы пережили нак-
ануне. С самого начала сеанса я принялся за работу. И за час
закончил все, даже самые легкие тени. Все оставшееся время я
восторгался изяществом своего творения, как вдруг заметил, что
рисунок совсем крошечный, даже меньше первого.
У входа отец читал какой-то журнал. Не решаясь расспрашивать
меня, он ждал, что я скажу.
- У меня получился удивительный рисунок.
И чуть погодя добавил:
- Жаль, что он меньше первого.
Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Однако итоги
экзамена были не менее ошеломительными. Меня приняли в Академию
изящных искусств со следующим примечанием: "Несмотря на то, что
рисунок выполнен не в указанных размерах, он настолько совершен-
ен, что жюри принимает его".
Отец с сестрой уехали, и я остался один в комфортабельной ко-
мнате Студенческой Резиденции. Чтобы поселиться там, нужны были
отличные рекомендации. Там жили отпрыски лучших испанских сем-
ейств. Вскоре я начал посещать занятия Академии изящных искусств.
И это занимало все мое время. Я не болтался по улицам, никогда не
ходил в кино, не посещал своих товарищей по Резиденции. Я
возвращался и закрывался у себя в комнате, чтобы продолжать
работать в одиночестве. В воскресные утра я ходил в музей Прадо и
брал каталоги картин разных школ. Путь от Резиденции до Академии
и обратно стоил одну песету. Многие месяцы эта песета была моей
единственной ежедневной тратой. Отец, уведомленный директором и
поэтом Маркина (под опекой которого оставил меня) о том, что я
веду жизнь отшельника, тревожился. Несколько раз он писал мне,
советуя путешествовать по окрестностям, ходить в театр, делать
перерывы в работе. Но все было напрасно. Из Академии в комнату,
из комнаты в Академию, одна песета в день и ни сантимом больше.
Моя внутренняя жизнь довольствовалась этим. А всякие развлечения
мне претили.
В своей комнате я написал мои первые кубистические полотна,
намеренно подражая Хуану Грису. Употреблял только черный, белый,
оливково-зеленый цвета и "ла терр де Сиенн", в противовес своим
прежним цветовым излишествам. Мой наряд дополняла большая
фетровая шляпа, а также трубка, которую я никогда не зажигал.
Взамен длинных брюк я носил короткие штаны с мини-носками, иногда
заменяя их обмотками. В дождливые дни меня защищал непромокаемый
плащ, почти волочившийся по земле. Сегодня я отдаю себе отчет,
что мой странный наряд был немного "фантастическим". Об этом
шептались не таясь, и каждый раз, входя или выходя из своей ко-
мнаты с высоко поднятой головой, я видел, как любопытствующие
собираются поглазеть на меня.
Несмотря на первоначальный энтузиазм, я вскоре разочаровался
в Академии изящных искусств. Отягощенные летами и привычкой к
декорированию профессора ничему не могли меня научить. В самом
деле, они, далекие от отступлений в академическом приспособл-
енчестве, были "уже" прогрессистами, готовыми к "новизне". Тогда
как я ждал от них ограничений, суровости, техники, они давали мне
свободу, лень, приблизительность. Эти старики уже были смутно
знакомы с французским импрессионизмом по форсированным примерам
"испанского типизма". Соролья был для них богом, а я был уже
заражен кубизмом, который они готовились принять через несколько
поколений. Я задавал своему профессору назойливые вопросы: как
смешивать масло и с чем? как постоянно добиваться цельной
вещественности? какому методу следовать, чтобы получить эффект?
Изумленный моими вопросами профессор отвечал крайне неопредел-
енно.
- Мой друг, каждый должен найти свой метод. В живописи нет
закона. Выражайте то, что видите. Вложите в это свою душу. В
живописи идет в счет только темперамент. Темперамент!
Я грустно думал: "Темперамента мне у вас ни занимать,
профессор, но скажите мне, ради Бога, в каких пропорциях см-
ешивать лак и масло?"
- Смелее, смелее, - повторял он, - будьте осторожны, не
детализируйте. Упрощайте, упрощайте, без всяких правил и
принуждения. В моем классе любой ученик должен работать в
согласии со своим темпераментом!
Профессор живописи! Профессор - и такой дебил! Сколько нужно
было войн и революций, чтобы вернуться к высшей реакционной
истине, что "строгость" - это первое условие любой иерархии, что
принуждение - только и отливает форму формы. Профессор живописи!
Профессор! Какой дурак!
В Мадриде я был единственным парадоксальным художником,
который, занимаясь кубизмом, в то же время требовал от
профессоров точной науки - как рисовать перспективу и создавать
колорит. Мои товарищи принимали меня как реакционера, противника
прогресса. Они называли себя революционерами и новаторами, потому
что им позволяли рисовать как попало и потому что черный цвет на
своих палитрах они сменили на лиловый! Нет черного цвета,
утверждали они, все окрашено только в цвета спектра, а значит,
тени лиловые. Эту импрессионистскую революцию я совершил еще в
двенадцать лет, но даже в этом возрасте не сделал подобной ошибки
- не изгнал черный цвет из своей палитры. Одного взгляда на
небольшое полотно Ренуара в барселонском собрании было
достаточно, чтобы все понять. А они годами топчутся в своих
полукруглых залах. Боже, до чего глупыми могут быть люди!
Все подтрунивали над старым профессором, который один глубоко
постиг свою науку и был по-настоящему знающим. Я сам не раз
сожалел, что не очень внимательно прислушивался к его советам.
Хосе Морено Карбонеро был очень хорошо известен во Франции.
Некоторые из ело картин, вдохновленные сценами "Дон Кихота", и
сегодня нравятся мне больше, чем когда-либо. Он ходил в черном
пиджаке, с черной жемчужиной в галстуке и проверял наши работы в
белых перчатках, не пачкая их. Два-три прикосновения угольным
карандашом - и рисунок чудесным образом преображался. Два мал-
еньких медиумичных глаза как будто все мгновенно фотографировали.
Ученики ждали его ухода, чтобы стереть поправки и переделать
рисунки по своему "темпераменту". Их лень не имела себе равных,
так же, как и их безосновательные и сомнительные претензии на
славу, тогда как они были не способны ни опуститься до уровня
здравомыслия, ни подняться к вершинам величия. Какие вы дебилы,
мои товарищи по Изящным искусствам!
Однажды я принес свой каталог Жоржа Брака. Никто никогда не
видел картин кубистов и никто из учеников Академии не был готов
принять такую живопись. Только профессор анатомии, славившийся
научным складом ума, попросил у меня на время эту маленькую кн-
игу. Он уверял, что никогда не видел работ кубистов, но считает
правильным уважать то, чего не понимаешь. Тем более, если о подо-
бных вещах было написано черным по белому, значит, в них был
какой-то здравый смысл. На следующее утро, прочтя предисловие, он
вернул мне книгу. Доказывая, что во всем разобрался, он привел
мне множество в высшей степени абстрактных и геометрических прим-
еров. Я ответил, что он не совсем прав и кубизм следует внятно
воспринимаемому рисунку. Профессор анатомии открыл коллегам ориг-
инальность моих эстетических идей. Все стали смотреть на меня как
на высшее существо.
Внимание, проявленное к моей персоне, чуть было не пробудило
во мне былую детскую страсть к публичному обнажению. Раз они не
могут меня ничему научить, думал я, объясню-ка им сам, что значит
"личность". И все же я продолжал вести себя примерно: никогда не
пропускал занятий, демонстрировал уважение, над любым сюжетом
работал в десять раз быстрее и лучше, чем первый ученик в классе.
Однако профессора не решались считать меня "творцом".
- Он слишком серьезен, - говорили они, - очень искусен и
успевает делать все, за что берется. Но он холоден, как лед, в
его работах нет чувства, ибо он не является личностью.
Погодите, господа, погодите, вы еще увидите, что я за
личность! Первая искра вспыхнула во время визита в Академию
короля Альфонса III. В эту эпоху его популярность падала и
предстоящее посещение разделило школу на два лагеря. Противники
не хотели приходить в назначенный день, и дирекция, предвидя
возможный саботаж, чтобы заставить всех явиться, вынуждена была
издать строгий приказ. За неделю началась уборка вечно грязной и
ветхой Академии. Было умело продумано, как скрыть от короля,
насколько нас мало. Ученики должны были, перебегая по внутренним
лестницам, заполнять следующие по ходу визита залы. Жалкие и
чахлые натурщики, получавшие нищенский заработок, были заменены
смазливыми девицами из числа мадридских шлюх. На стенах были
развешаны картины, на окнах появились занавеси, повсюду блестели
позументы. Все было готово к прибытию короля в сопровождении
официальной свиты. Инстинктивно противореча общему мнению, я
нашел короля очень симпатичным. Ему приписывали дегенеративность,
а он, напротив, понравился мне подлинно аристократической
уравновешенностью, затмевающей заурядное окружение. Он держался
так непринужденно и естественно, будто только что сошел с бл-
агородного полотна Веласкеса. Я почувствовал, что он сразу зам-
етил меня среди товарищей. Мой необычный наряд, мои волосы, как у
девушки, мои бакенбарды должны были бросаться в глаза. К тому же,
по непредвиденной случайности, меня сочли представительным
учеником, и я сопровождал короля из одного класса в другой. Я см-
ертельно стыдился при мысли, что король обнаружит уловку,
использованную Академией, чтобы произвести благоприятное
впечатление. После нескольких перебежек я чувствовал искушение
разоблачить комедию, которую играли перед ним, но вовремя
воздержался.
В конце посещения короля сфотографировали с учениками. Было
велено найти кресло, но он, предвидя это, с великолепной
непосредственностью уселся на пол. Потом щелчком указательного и
большого пальцев отправил в плевательницу окурок сигареты. Этот
жест, характерный для мадридских уголовников, вызвал оживленный
смех и расположил к королю учеников и особенно служителей,
которые никогда бы не осмелились на такое ни перед профессорами,
ни даже перед нами. Именно в эту минуту я убедился, что король
отличил меня от других. И в самом деле, он бросил на меня взгляд,
чтобы проверить мою реакцию. В его проницательном взгляде я
прочел опасение, как бы ктонибудь не увидел в его жесте дем-
агогического заигрывания. Я покраснел, и король, посмотрев на
меня, наверняка заметил это.
Снимок был сделан, и король каждому из нас уделил время. Я
был последним, кому он пожимал руку, и единственным, кто выразил
ему уважение, преклонив колено. Подняв голову, я заметил на его
нижней губе, по-бурбонски выпяченной, почти неуловимый тик. Мы
узнали друг друга!
Когда двумя годами позже король подписывал мое исключение из
Академии изящных искусств, он, очевидно, не сомневался, что
исключенный был тем самым единственным учеником, так эффектно
выражавшим свою почтительность.
Прошло четыре месяца, как я приехал в Мадрид, а моя жизнь
текла так же методично, уныло и прилежно, как и в первые дни.
Точнее сказать, я довел ее до аскетизма. Предпочел жить в тюрьме,
и если бы я в самом деле жил в тюрьме, ни капли ни сожалел бы о
своей свободе. Мои картины становились все строже и строже. Я
загрунтовал холсты очень толстым слоем клеевой краски. На этих
поверхностях, содержащих гипс, я написал, за четыре месяца в
Мадриде, несколько капитальных работ, в том числе и впечатляющее
"Аутодафе". Это и в самом деле было аутодафе, потому что грунт
покрылся кракелюрами и мои картины раскрошились на кусочки.
Однако перед этим их открыли, а вместе с ними открыли меня.
Студенческая Резиденция разделилась на группы и подгруппы.
Одна из них называла себя литературно-художественным нонконформ-
истским авангардом. Послевоенные катастрофические миазмы уже
бродили в ней. Эта группа переняла парадоксальную и
негативистскую традицию другой группы литераторов и художников,
которые называли себя "ультраистами", используя слабые отражения
европейских "измов". Они более или менее соответствовали
"дадаистам". В группу Резиденции входили Пепин Бельо, Луис
Бунюэль, Гарсиа Лорка, Педро Гарфиас, Эухенио Монтес, Р.Баррадас
и другие. Из тех, с кем я познакомился, только двоим суждено было
достичь вершин: Гарсия Лорке в поэзии и драме, Эухенио Монтесу и
духовности и уме. Один был из Гранады, другой из Сент-Жаке-де-Ко-
мпостель.
Как-то в мое отсутствие хозяйка оставила мою дверь открытой,
и Пепин Бельо, проходя по коридору, заметил две мои кубистические
работы. Он сразу же поделился своим открытием с группой, которая
до сих пор знала меня только в лицо. Я был для них предметом
упражнений в едком юморе, одни называли меня "музыкант" или
"артист", другие - "поляк". Мой смешной костюм, так непохожий на
европейский, заставлял их презирать меня и считать какойто убогой
романтической фигурой. Мой прилежный вид, мое лицо без тени юмора
делали меня в их глазах жалким, умственно отсталым и разве что
живописным. Ничто так не отличалось от их щеголеватых английских
костюмов, как мои велюровые куртки, мой галстук, завязанный
бантом, мои носки-обмотки. Они стриглись очень коротко, я же
отпускал волосы длинные, как у девушек. Когда мы с ними познаком-
ились, они были во власти настоящего комплекса элегантности и
цинизма, которым страшно кичились. Одним словом, я стеснялся их и
почти до обмороков боялся, как бы они не вошли в мою комнату.
После открытия Пепино Бельо они пришли посмотреть на меня и
со своим обычным снобизмом преувеличивали свое восхищение. Они
думали обо мне бог знает что, но не ожидали, что я художник-
кубист. Они откровенно признались во всем, что говорили обо мне,
и взамен предложили свою дружбу. Менее великодушный, чем они, я
сохранял какую-то дистанцию между нами, спрашивая себя, что
конкретно они могут мне дать. Между тем, меньше чем за неделю я
произвел на них такое впечатление превосходства, что вскоре вся
группа повторяла: "Дали сказал тото...", "Дали нарисовал то-
то...", "Дали ответил...", "Дали думает, что...", "Это похоже на
Дали...", "Это далинийское...". Вскоре я понял, что они все у
меня возьмут и ничего не дадут. Все, чем они распологали, было у
меня в квадрате или в кубе. Мне нравился только Гарсия Лорка. Он
воплощал собой целостный поэтический феномен, был самим собой -
застенчивый, полнокровный, величавый и потный, трепещущий тысячей
мерцающих подземных огней, как любая материя, готовая вылиться в
свою собственную оригинальную форму. Моей первой реакцией было
отрицательное отношение к "поэтическому космосу": я утверждал,
что ничто не могло остаться без названия и определения. Для всего
были установлены какие-то "рамки" и "законы". Здесь не было
ничего, что нельзя было бы "съесть" (к тому времени это уже стало
моим излюбленным выражением). Когда я чувствовал заразительный
огонь поэзии великого Федерико и меня охватывали безумные и
прихотливые языки его пламени, я прилагал все усилия, чтобы
укротить и погасить их оливковой ветвью своей преждевременной
анти-фаустовской старости, готовя уже решетку своего
трансцедентального прозаизма, на котором на следующий день, когда
от пламени Лорки останутся только угли, я буду жарить шампиньоны,
котлеты и сардины своих идей. Все будет вовремя сервировано и
подано теплым на чистых страницах книги, которую вы собираетесь
прочесть. Одним махом я утолю духовный голод нравственности и
воображения нашей эпохи.
Наша группа все больше стремилась к интеллектуалам, это
приводило нас в кафе, где в сильном запахе горелого масла уже
варилось литературное, художественное и политическое будущее
Испании... Двойной вермут с маслиной великолепно воплощал
послевоенную сумятицу, привнося дозу еле скрытой сентим-
ентальности, неуловимых проявлений героизма, дурной веры, элег-
антного канальства, кислого пищеварения и антипатриотизма. Все
это было замешано на солидной и прочно установленной вражде,
нацеленной пробивать себе дорогу и каждый день открывать новые
нелимитированные кредитные филиалы - до первого удара пушек
гражданской войны.
Я уже упоминал, что принявшая меня и признавшая своим группа
ничему не могла научить меня. Я хорошо знал, что это не совсем
так, что они должны научить меня одной вещи, которая осталась бы
моей. Они научили меня "прожигать жизнь"...
Надо рассказать об этом подробнее. Как-то после ужина группа
повела меня пить чай в элегантную достопримечательность Мадрида,
"Хрустальный Дворец". Едва войдя, я все понял. Мне нужно было
радикально изменить внешний вид. Мои друзья, которые проявляли по
отношению ко мне больше самолюбия, чем я сам (моя огромная надм-
енность мешала мне быть внимательным к таким вещам), пытались
защитить и оправдать мой странный наряд. Они готовы были всем
пожертвовать ради этого, принимали весь огонь на себя. Их
оскорбляли сдержанные взгляды, брошенные исподтишка, которыми
сопровождалось мое появление в элегантном чайном зале. На их
яростных лицах было написано: "Ну и пусть наш друг похож на помо-
йную крысу. Ну и что! Это самая важная персона, какую вы когда-
либо видели, и при малейшей бестактности с вашей стороны мы
набьем ваши физиономии".
Бунюэль, самый сильный и толстый, с вызовом оглядел зал, ища
повода для драки. Ему нужна была любая зацепка. Но на этот раз ее
не было. Выходя, я сказал своим телохранителям:
- Вы прекрасно защитили меня. Но я не хочу подставлять вас
под удар. Завтра я оденусь, как все.
Группу взволновало это решение. Один раз приняв мой нелепый
вид, они намеревались и дальше защищать его. Такого смятения
среди интеллектуалов мир не видывал с того дня, когда Сократ
согласился выпить цикуту в присутствии учеников. Меня пробовали
переубедить, как будто, постригшись и переодевшись, я бы утратил
свою личность.
Я не отменил своего решения. Ведь в глубине души я и сам был
не лишен здравого смысла. Мне хотелось нравиться элегантным
женщинам, которых я увидел в чайном зале. А что такое элегантная
женщина? Это женщина, которая вас терпеть не может и у которой
подмышками нет волос. Когда я впервые увидел нежно-голубоватую
выбритую подмышку, это показалось мне шикарным и потрясающе
развратным. Я решил изучить это вопрос так же "основательно", как
и все остальные.
На следующий день я начал с главного - с головы. Было бы
неловко отправиться прямиком к парикмахеру "Ритца", как
советовали мне друзья. Сперва нужен был "оптовик", который
стрижет всех подряд. Уже затем я тщательно отделаю прическу в
"Ритце". Полдня я бродил по Мадриду в поисках мастера, но всякий
раз застенчивость не давала мне переступить порог. Наконец, после
мучительных сомнений я решился - и парикмахер набросил мне на
плечи полотенце. Когда под ножницами упали первые пряди волос, я
словно лишился рассудка. А вдруг и вправду существует комплекс
Самсона? Я смотрел на себя в зеркало, и мне казалось, что вижу
короля на троне с белым полотенцем - нет, с алой мантией на
плечах. Меня охватил вдруг такой страх, что первый и последний
раз в жизни я потерял веру в самого себя. Правда, на несколько
минут. Мое обличье ребенка-короля показалось мне вдруг жестоким
случаем биологического несовершенства, несоответствием между
болезненным телосложением и ранним созреванием разума. Был ли я
также слабоумен, как все остальные?
Я расплатился и отправился в "Ритц". На пороге парикмахерской
я почувствовал, как развеялись мои последние опасения. Я ни о чем
ни сожалел. И в "Ритце" пошел не к парикмахеру, а прямиком в бар.
- Дайте мне, пожалуйста, один коктейль, - попросил я бармена.
- Какой именно, сударь?
А я и не подозревал, что есть несколько видов, и ответил
наугад:
- Любой, лишь был бы хорош!
Коктейль показался мне сперва ужасным, но уже спустя пять
минут я нашел, что он неплох. Я передумал идти к парикмахеру и
заказал вторую порцию. А после нее вдруг с ошеломительной
ясностью понял: первый раз я прогулял занятия в Академии и
нисколько не чувствовал себя виноватым. Наоборот, считал, что
период прилежания завершен. Сомнений нет, я больше нс вернусь в
Академию. В моей жизни появилось нечто новое.
Допивая последний коктейль, я нашел в стакане белый волосок.
Меня до слез взволновало это доброе предзнаменование. Мысли
мелькали у меня в голове с необычайной скоростью, будто алкоголь
отпустил их с тормозов. Я повторял себе: вот мой первый белый
волос! И зажмурившись, выпил крепкий коктейль. Это был эликсир
"долгой" жизни, старости, анти-Фауста. Сидя в отдельном уголке, я
громко произнес эти слова, но, к счастью, меня никто не услышал.
Я один был в баре, не считая гарсона за кассой и седовласого
старика, у которого так тряслись руки, что он приложил немало
усилий, прежде чем взял стакан, не расплескав его. Как бы и мне
хотелось так элегантно трястись!
Я опять уставился на белый волос в своем стакане.
- Хочу рассмотреть тебя поближе, ведь еще никогда в жизни мне
не случилось брать белый волос, чтобы изучить его и разгадать его
секрет.
Затем я сунул указательный и большой пальцы в стакан, но
короткими ногтями не мог ухватить волосок. В это время вошла
элегантная женщина в легком платье, с наброшенным на плечи мехом.
Она фамильярно перекинулась несколькими словами с барменом,
который, размешивая стакан для нее, бросил на меня беглый взгляд,
за которым последовал другой, на сей раз ее. Они говорили обо
мне. Делая вид, что не замечает меня, она притворилась, что ищет
глазами кого-то в зале, но ее взгляд еще раз как бы случайно
остановился на мне. Бармен дождался, пока она насмотрится на
меня, и снова заговорил с ней, сопровождая свои слова скорее
иронической, чем приветливой улыбкой. Женщина бесцеремонно рассм-
атривала меня. Раздраженный этими шпионскими взглядами, а также
своей неловкостью - мне никак не удавалось подцепить белый
волосок, - я сунул палец в стакан и, сильно прижав его к стенке
стакана, стал медленно вытягивать. Но белый волосок не
отклеивался, а я почувствовал боль в пальце и тут же вынул его. С
пореза крупными каплями стекала кровь. Чтобы не запачкать кровью
стол, я снова сунул палец в коктейль. В нем и в помине не было
никаких белых волосков, зато на стакане блестела длинная трещина.
Порез все больше кровоточил, коктейль окрасился в красный цвет, а
женщина пристально наблюдала за мной. Я был уверен, что бармен
сказал женщине: одиноко пьющий в углу - всего лишь незадачливый
провинциал, который ни в чем не знает толку и наивно заказывает
любой коктейль, "лишь был бы хорош!". Теперь я поклялся бы, что
именно это прочел по его губам!
Кровь все текла. Обернув и перетянув палец двумя носовыми
платками, я остановил кровь и вложил руку в карман. И собрался
уходить, как вдруг у меня мелькнула очередная далинийская мысль.
Подойдя к бару, я протянул гарсону купюру в двадцать пять песет.
Он поспешно отсчитал мне сдачу, двадцать две песеты, но я отк-
азался:
- Оставьте их себе!
Никогда я не видел более удивленного лица. Это напомнило мне
товарищей по коллежу, с которыми я совершал пресловутые операции
по обмену монет в десять сантимов на монеты в пять. Такой же трюк
вполне годился и для взрослых. В баре я понял, какое преимущество
дают деньги. И это еще не все. Алкоголь развеял мою
застенчивость, я чувствовал себя уверенно и свободно.
- Мне бы хотелось, - сказал я, - купить вишню.
На. тарелке горкой лежали засахаренные ягоды. Бармен поспешно
подвинул ее ко мне.
- Возьмите все, что пожелаете, сударь! Я взял одну ягодку и
положил на кассовый аппарат.
- Сколько с меня?
- Нисколько, сударь, совершенно ничего.
Я снова вынул купюру в двадцать пять песет и дал ему. Но он
отказался ее взять.
- Тогда я возвращаю вам вашу вишню!
И я положил ее на тарелку с мелочью. Бармен подвинул тарелку
ко мне, настойчиво просил взять вишню и не шутить так больше. Мое
лицо стало бледным и серьезным и он осекся:
- Если господин желает сделать мне подарок...
-Желает!
Испуганно глядя, он взял деньги. Может, он решил, что имеет
дело с сумасшедшим? Он бросил быстрый взгляд на одинокую даму,
которая в- изумлении наблюдала за моими действиями. Во время этой
сцены я не смотрел на нее, будто ее не существовало. Однако
настал и ее черед.
- Мадам, - сказал я, - прошу вас, подарите мне вишенку с
вашей шляпы.
- С удовольствием, - ответ-ила она, слегка кокетничая.
Она наклонила голову, я протянула руку и взял одну из вишен.
По счастью, искусственный вишни не представляли для меня секрета
с тех пор, как я ходил в швейное ателье моей тетушки Каталины. Я
не стал тянуть стебель, а перегнул его и - крак! - тоненькая
проволочка переломилась. Я выполнил эту операцию одной здоровой
рукой, но с удивительной ловкостью.
Зубами я надкусил искусственную вишню, и показался краешек
белой ваты. Тогда, взяв засахаренную вишню, я насадил ее на конец
железной проволочки рядом с искусственной. Для завершения эффекта
я взял соломинкой из стакана дамы немного взбитых сливок и
осторожно положил их на настоящую вишню. Сходство стало полным.
Теперь никто бы не смог сказать, где настоящая, а где фальшивая
ягода. Бармен и молодая женщина, не находя слов, следили за моими
ухищрениями.
- А сейчас, - добавил я,-вы увидите самое главное.
Я сходил к своему столику, взял красный от крови коктейль и,
вернувшись, поставил его на стойку. Потом осторожно опустил в
стакан обе вишни.
- Поглядите внимательно на этот коктейль, - сказал я бармену.
- Такого вы еще не видели.
Я вышел из "Ритца" в полном спокойствии, размышляя, что же я
только что сделал, и в таком же волнении, как Иисус в день, когда
он придумал Причастие. Как решил бармен проблему алого коктейля,
который ничем не походил на тот, которым он меня угостил?
Попробует ли он его? О чем они будут рассказывать друг другу
после моего ухода? Эти вопросы привели меня в безумно веселое
настроение. Мадридское небо было ярко-голубым, стояли дома из
бледно-розового кирпича, и все это сулило мне блистательные
надежды. Я феномен, я феномен...
Остановка моего трамвая была довольно далеко, и я побежал со
всех ног. Прохожие не обращали на меня никакого внимания. Недо-
вольный их безразличием, я стал разнообразить свой бег все более
экзальтированными прыжками. Я всегда был хорошим прыгуном, но на
этот раз совершал такие чудеса, что прохожие пугливо сторонились,
а я, подпрыгивая, каждый раз кричал: "Кровь слаще меда!" - и
словно "мед" звучало громче других, подобно воинственному кличу.
И нечаянно свалился как раз рядом с одним из моих товарищей по
Академии изящных искусств, который, безусловно, никогда не видел
меня в таком возбужденное состоянии. Я решил еще больше удивить
его и, приблизившись к его уху, будто хотел ему шепнуть что-то
конфиденциальное, изо всех сил заорал: "Мед!". Трамвай тронулся,
я вскочил на подножку, оставив своего товарища ошеломленным и
приросшим к тротуару. На другой день, несомненно, он растрезвонил
по всей школе:
- Дали не в своем уме, он скакал, как козел!
Это еще не все, чем я удивлю их. Наутро я пошел на занятия
очень, поздно. Только что я купил у самого дорогого мадридского
портного самый элегантный костюм и надел под него ярко-голубую
шелковую рубашку с сапфировыми запонками на манжетах. Целых три
часа я держал волосы в специальной сетке, наводил на них глянец
столярным лаком(Вот была беда избавляться от этого лака! Пришлось
сунуть голову в тазик со скипидаром. Позже я пользовался менее
опасным средством, добавляя в жидкость желток.). Они стали похожи
на однородное, твердое и очень гладкое тесто или напоминали
грамофонную пластинку, отлитую у меня на голове. Если бы их слом-
али, они издали бы металлический звук. Эта метаморфоза,
происшедшая за один день, потрясла всех учеников в Академии. А я
понял, что даже одевшись как все и накупив вещей в самых
дорогостоящих мадридских магазинах, я все же останусь оригиналом.
Мне удалось скомбинировать детали таким образом, что все
оборачивались, когда я проходил мимо. Вслед за колкостями
последовало восхищенное и смятенное любопытство. Вдобавок я купил
себе гибкую бамбуковую трость с набалдашником, отделанным кожей.
Усевшись на террасе кафе "Регина" и выпив три вермута с
маслиной, я оглядывал плотную толпу проходящих по улицам моих
будущих зрителей, таких умных, исполненных мадридского духа. К
часу дня я нашел группу в баре итальянского ресторана и взял еще
два вермута. Я заплатил бармену, оставив ему такие огромные
чаевые, что по ресторану пробежал легкий шум и мгновенно
прибежали официанты, готовые к любым услугам. Я точно помню меню,
заказанное в этот день: самые необычные закуски, крепкий
мадридский бульон-желе, жареные макароны и голубь. Все это было
обильно залито красным итальянским вином. Кофе и коньяк все
больше оживляли наши беседы, темой которых была анархия. Хотя нас
было только двенадцать, между нами уже произошел раскол. Часть
выступала за либеральный социализм, который вскоре станет
игрушкой сталинизма. Моя личная позиция была такова: счастье или
несчастье - это ультраличная вещь и не имеет ничего общего с
устройством общества, в котором жизненный уровень растет по мере
того, как люди получают новые политические права. Напротив, надо
увеличивать коллективную угрозу и незащищеность, методично
дезорганизуя все, чтобы распростронять страх, в соответствии с
психоанализом, являющийся одним из принципов наслаждения. Если же
счастье зависит от чей-либо воли, то тогда оно принадлежит рел-
игии. Надо, чтобы правительство максимально ограничивало себя в
исполнительной власти. Из его действий и реакции на них может во-
зникнуть духовная структура или форма, а не рациональные
механические или бюрократические организации, ведущие лишь к
обезличиванию и постредственности. Есть и другая, утопическая, но
заманчивая возможность, наподобие "абсолютно анархического
монарха" Людовика II Баварского - согласитесь, не самый дурной
пример.
Споры придавали мыслям все более отчетливую форму. Они
никогда не переубеждали меня, наоборот, всегда укрепляли в своем
мнении. Я требовал от друзей анализировать вместе со мной пример
Вагнера и его миф о Парсифале с социальной и политической точек
зрения...
Прервав раздумья, я подозвал гарсона, который, под тлетворным
влиянием чрезмерной интеллектуальности, ловил каждое слово из
наших уст.
- Гарсон, - подумав, сказал я, - принесите, пожалуйста,
поджаренного хлеба и сосисок.
Он бросился выполнять заказ, и мне пришлось откликнуть его
еще раз:
- И немного вина1
Парсифаль, рассматриваемый с политической и социальной точек
зрения, разбудил мой аппетит.
Из итальянского ресторана я направился в Резиденцию, чтобы
захватить немного денег. Те, что я утром положил в карман,
непонятным образом исчезли. Нет ничего проще, чем получить
деньги. Я обращаюсь в кассу и подписываю квитанцию.
Поправив свои материальные дела, я снова встретил группу, на
сей раз в немецкой пивной, где подавали темное пиво. Мы съели
добрую сотню вареных раков, их очистка от скорлупы особенно
подходила к обсуждению Парсифаля. Наступал вечер, и мы перем-
естились в Палас, чтобы выпить сухого шампанского. Тогда я
впервые я попробовал его и остался верен ему. Бутылки молниеносно
исчезали с нашего стола, и бармен едва успевал их менять. Но вот
вопрос: гае нам ужинать? В любом случае больше не пойдем в чистую
и скучную столовую Резиденции. По моему предложению группа
единогласно решила вернуться в итальянский ресторан. Мы позвонили
и заказали отдельный зал.
Он был восхитительным, с черным роялем, освещенный розовыми
свечами, с большим винным пятном на стене. Что мы ели? Я солгал
бы, если б сказал, что помню. Было вдоволь белого и красного
вина. Полемика стала настолько бурной, что я уже не вмешивался, а
сел за рояль и одним пальцем наигрывал "Лунную сонату" Бетховена.
Когда я начал импровизировать возвышенный аккомпанемент левой
рукой, меня оторвали от рояля - и мы поехали в Ректорский клуб
Паласа, одно из самых элегантных местечек Мадрида, где можно было
выпить немного шампанского. "Немного" - это так, к слову. На
самом деле я знал, что мы будем пить много, и был настроен
напиться.
Бунюэль, который играл у нас в застолье роль тамады, решил,
что сначала мы выпьем виски, закусим, а потом, по случаю
торжества, возьмемся за шампанское перед тем, как отправиться
спать. Мы одобрили это решение и продолжали свои беседы. Все были
согласны, что надо делать революцию, но как? С чего начать? И
почему? Не все было ясно с самого начала. Поскольку не грозила
опасность, что революция вспыхнет сегодня же ночью, и у нас
оставалось время, мы заказали еще выпивки на всех и терпеливо
дожидались следующего виски. Затем второго, третьего,
четвертого,.. пока наконец не осведомились у Бунюеля:
- И это шампанское?
Мы явились туда в два часа ночи, было поздно, нас мучил
голод. Надо было что-то заказать к шампанскому. Я попросил
спагетти, а остальные - холодных цыплят. Я позавидовал им, но не
стал заменять заказ. Наша дискуссия, все оживляясь и делаясь все
более лиричной по мере того, как рекой лилось шампанское, перешла
на тему "любовь и дружба".
- Любовь, - утверждал я, - странно напоминает некоторые
болезненные гастритные ощущения, сопровождаемые ознобом и
тошнотой, да так, что не знаешь сам, влюблен ты или тебя тянет на
рвоту. Но уверен, вернись мы к Парсифалю, нас могло бы осенить.
Все запротестовали. Парсифаль им надоел.
- Ладно, оставим это на потом. Но пока мы не ушли, дайте мне
хоть крылышко цыпленка.
Было пять утра, и Ректорский клуб закрывался. Мы чувствовали,
что просто преступно идти спать, когда нам так хорошо! И открыли
следующую бутылку шампанского. Глаза моих друзей были полны слез.
Чернокожий оркестр играл замечательно, и его синкопы
переворачивали все внутри, не отпуская нас ни на миг. Пианист
играл как сумасшедший и в самых сильных местах можно было
услышать его прерывистое дыхание, громче аккомпанемента. Черный
саксофонист выдул в свой инструмент всю свою страстную кровь и
упал без движения. Мы только что открыли для себя джаз и, должен
честно признаться, он произвел на меня определенное впечатление.
Несколько раз мы посылали музыкантам банковские билеты в
конвертах. Эти подарки их так трогали, что каждый раз чернокожие
подымались по команде их руководителя, пианиста, раскланивались и
приветствовали нас всеми своими белоснежными зубами. Мы
предложили .им бутылку шампанского, чокнувшись с ними издалека,
так как по правилам им было запрещено подходить и садиться за
столики. Деньги уже не имели для нас никакого значения. Мы были
тем более щедры, что тратили родительские средства. Последняя
бутылка шампанского вдохновила моих друзей ни торжественный
договор, и мы все поклялись следовать ему: что бы не случилось в
жизни, каковы бы ни были наши политические убеждения и наши
материальные затруднения (даже если разбежимся по заграницам) ,
мы обязуемся собраться через пятнадцать лет на том же месте, а
если Палас будет разрушен, то на месте, где он стоял.
Продолжали спорить, как узнать, будут ли свободные места в
гостинице накануне нашей встречи в последующие годы и как мы
поступим в том или ином случае. Я не стал уточнять детали и
разглядывал элегантных и увешанных драгоценностями дам, которых
много было вокруг и от которых сжималось сердце. Что это означало
- уж не в самом ли деле легкий позыв на рвоту, как я говорил час
назад, играя циника? Мне все-таки оставили ляжку цыпленка, и я ее
съел. Нужна была последняя бутылка шампанского, чтобы закрепить
наше соглашение. Нас было шестеро, и мы разорвали на шесть
кусочков карточку Ректорского клуба, на которой был написан номер
стола (цифра 8, которую я запомнил из-за символического значения
для меня этого числа). Каждый получил по кусочку картона, на
котором мы все расписались и поставили дату. Шампанским скрепили
договор. Как мы нашли бы друг друга в назначенный срок? Ведь
свирепствовала гражданская война. И отель Палас, который видел
нашу золотую молодость, превратился в окровавленный госпиталь. Но
все же - какой прекрасный сюжет для нравоучительного романа: наше
сборище, одиссея шестерых друзей, разлученных временем и
фанатично непримиримой враждой, но поднявшихся над своими
разногласиями, чтобы сдержать данное слово. Не знаю, имел ли
место или нет этот химерический ужин. Единственное, что могу
шепнуть вам по секрету: меня там не было(Через девять лет я
встретил в Париже одного из тех друзей. Он уверял меня, что
заботливо сберег кусок договора. И меня еще раз поразило
ребячество человека. Из всех животных, растений, архитектур, скал
- не стареет один человек.).
Все в мире кончается, и наша ночь в Ректорском клубе подошла
к концу - в кабачке, переполненном проезжими, ночными сторожами и
людьми, одержимыми манией ловить поезда в невозможные часы. Мы
выпили здесь по последнему стакану одинарной анисовой. Первый луч
рассвета позвал нас спать. Спать! Пошли спать! На сегодня хватит!
Завтра будет новый день. Завтра начинается мой настоящий
"Парсифаль".
Мой "Парсифаль" начался с позднего подъема, затем последовали
пять вермутов с маслиной. В два часа - сухое вино с ветчиной и
хамсой, чтобы убить время до прихода группы. Об обеде у меня нет
никаких воспоминаний, кроме пяти стаканов шартреза, напомнивших
мне завершение обедов у моих родителей в Кадакесе. И я заплакал.
В пять или шесть вечера я оказался за столиком на ферме в
окресностях Мадрида. Там было маленькое патио с чудесным видом на
Сьерра Гуадарама и черную дубраву. Группа догнала меня и мы сели
перекусить. Я съел большой кусок моруна в томатном соусе. Люди за
соседним столом дали мне понять, что рыбу надо есть ножом.
Металлический привкус ножа вместе со вкусом рыбы показался мне
нежным и на редкость аристократическим. После моруна мне страшно
захотелось чего-ниоудь вкусненького и я заказал куропатку. Увы,
ничего такого не было. Взамен хозяйка предложила горячего кролика
с луком или голубя. Я сказал, что не хочу ничего горячего и
выбрал голубя. Но обиженная хозяйка настаивала на своем - горячий
кролик. А я стоял на своем - голубь. Единственное, что огорчало
меня, это то, что в ближайшие два-три часа надо будет еще поесть.
- Ну ладно, несите кролика!
До чего же она была права! Благодаря тонкоразвитому вкусу я
вмиг понял все тайны и секреты горячих олюд. Соус таял во рту, и
я мог только поцокать языком. Поверьте мне, это прозаическое цок-
анье языком, так напоминающее хлопанье пробки шампанского, -
очень точный звук, означающий редкое наслаждение. Одним словом,
горячий кролик - мое любимое блюдо.
Мы уехали с фермы на двух шикарных машинах, которые я только
сейчас заметил. Но стоило приехать в Мадрид, и наши планы
перехватить в полночь чего-нибудь холодного развеялись, как дым.
Перед нами во всей своей красе встал призрак голода.
- Начнем с какой-нибудь выпивки, - сказал я. - Мы не так уж
торопимся. Там видно будет.
Выпить было просто необходимо, так как вино на ферме было
плохим и с горячим кроликом я пил только воду. Я взял три порции
сухого вина и понял, что мой настоящий "Парсифаль" лишь
начинается. По счастью, у меня был выработан план, и под
предлогом, что я иду в кабинку, я неторопливо направился к
выходу.
На улице я с наслаждением вдохнул чистый воздух свободы. Меня
слегка бил озноб. Наконец я один! Я взял такси, которое довезло
меня до Резиденции и ждало целый час, пока я наводил красоту для
моего "Парсифаля". Я принял душ, побрился и нанес на волосы лак
для картин, невзирая не все последующие несчастья. Но мой
"Парсифаль" заслуживал того. Потом я подвел глаза карандашом. И
приобрел ужасно роковой вид в стиле "танцора аргенитинского
танго" Рудольфе Валентине, который тогда казался мне воплощением
мужской красоты. Из одежды я выбрал брюки светло-кремового цвета
и серый пиджак. Рубашка была из такого тонкого шелка, что
казалась прозрачной и позволяла видеть имперского орла волос на
моей груди. Но вдруг она показалась мне слишком свежей и. чистой,
и я стал ее мять. Это особенно удалось с твердым и белоснежным
воротничком.
Такси по-прежднему ждало меня.
- Во "Флориду", - сказал я водителю, - но сперва остановите у
какой-нибудь цветочницы.
У цветочницы я купил гардению, которую она приколола к моей
бутоньерке. "Флорида" была модным .танцевальным залом, где я еще
не бывал, но знал, что там бывают лучшие люди Мадрида. Я хотел
поужинать здесь один и привлечь внимание самых элегантных женщин
- того материала, который был мне необходим, чтобы любой ценой
осуществить безумную и неодолимую идею, почти невозможную и
отдающую тяжелым эротизмом - то, что со вчерашнего дня называлось
моим "Парсифалем"!
Я не знал, где находится "Флорида", и при каждом торможении
такси с сильно бьющимся сердцем готовился выходить. Во весь голос
я распевал из "Парсифаля". Боже мой, какая предстояла ночь! Она
состарит меня лет на десять, не меньше. Опьянение от трех порций
сухого вина проходило и появлялись строгие тяжелые мысли. Моя
злость была притуплена аперитивами, и теоретически я уже был
антиалкоголен, ведь алкоголь все запутывает и набрасывает на шею
узду самой жалкой субъективности и сентиментальности. Потом не
помнишь ничего, а если помнишь, тем хуже! Все, о чем думаешь
пьяным, кажется гениальным, и как потом стыдишься этого! Пьянство
уравнивает, делает единообразным и обезличивает. Только существа
заурядные могут чувствовать себя выше благодаря алкоголю, злой и
гениальный человек несет алкоголь в себе, алкоголь своего
ветшания. Тем не менее я спрашивал себя в такси, собираюсь я
осуществить свой "Парсифаль" с алкоголем или без него. В любом
случае мои действия в этот вечер уже несколько часов хорошо
подогревались. При каждом просветлении в мыслях я тщательно
обдумывал детали и безумел при мысли об этом. Чтобы наилучшим
образом сотворить "Парсифаль" (и чтобы ничего не помешало этому),
мне нужны были пять элегантных женщин и шестая, которая помогала
бы во всем. Ни одна ни должна была раздеваться, ни тем более я
сам. Было бы даже желательно, чтобы они были в шляпах. Очень
важно, чтобы у четырех из них подмышки были выбриты, а у двух
других, наоборот, были подмышками волосы.
Денег у меня с собой было достаточно, хотя я был уверен, что
и сам по себе достаточно соблазнителен. Наконец, я приехал во
"Флориду", как оказалось, слишком рано, и сел за столик, откуда
мог бы наблюдать все происходящее, прислонясь к какой-либо
стене(Пространство позади моей головы всегда так мучительно
тревожило меня, что это делало невозможной любую работу. Ширмы
было недостаточно для меня: мне нужна настоящая стена. Если она
очень прочна, я знаю, что моя работа наполовину удалась.). Меня
продолжал занимать тот же вопрос: выпить или нет? Безусловно, ал-
коголь поможег победить мою стеснительность в решающий момент,
когда я выложу свою просьбу. А как за это взяться? Задержать
сразу двоих и пригласить их в отдельный зал, чтобы они нашли мне
остальных и сами все уладили? С другой стороны, если я выпью,
чтобы побороть застенчивость первых минут, потом надо будет
быстро протрезветь, чтооы быть бодрым и видеть все остальное. Как
только начнется мой "Парсифаль", мне не хватит самого трезвого,
пристального и коварного взгляды, чтобы судить, осуждать и
решать, ад то или рай, испытывая, несомненно, отвращение, но
такое желанное, такое прекрасное и ужасно унизительное для всех
семи главных действующих лиц "Парсифаля", дирижером которого мне
предстояло быть до самой утренней зари, до петушиных криков,
которые в наших утомленных воображениях воскресят самые острые
наслаждения, вызовут краску стыда и угрызения совести.
- Что вам угодно, сударь?
Хозяин отеля, стоя перед моим столиком, ждал, когда я спущусь
с облаков.
- Кролика под луком,.. горячего, - сказал я без раздумий.
В конце концов я грустно довольствовался безвкусным скелетом
цыпленка. Когда я отрезал крылышко, в зал хлынули желающие
поужинать, а до сих пор в зале был я один, не считая официанта и
хозяина отеля, оркестра и пары профессиональных танцоров на
сцене. С первого взгляда я исключил женщину, на которую бросил
взгляд. Не могло быть и речи о ее участии в моем "Парсифале": она
была красивой, страшно и неприятно здоровой и безо всякой элег-
антности. Кстати, мне никогда в жизни не встречалась элегантная
женщина, которая была бы хороша собой, - эти две черты исключают
друг друга по природе своей. В элегантной женщине всегда есть
искусный компромисс между уродством, которое должно быть ум-
еренным, и красотой, которая должна "подразумеваться" и не более.
У элегантной женщины не должно быть совершенной красоты лица,
избыток которой так же раздражает, как постоянный звук трубы.
Если элегантная женщина может позволить себе некоторую усталость
и неуравновешанность, у нее есть зато абсолютные возможности рук,
подмышек, их очевидной красоты. Груди не имеют никакого значения.
Если они хороши, тем лучше, если нет, тем хуже. От остального ее
тела я ничего не требую, за исключением того, чтобы женщина была
елегантной: это особое сложение подвздошных костей, которое видно
под любым платьем и сразу же делает всех присутствующих
агрессивными. Линия плеч может быть какой угодно, правильной или
нет. Я никогда не рассержусь, если она смутит меня. Взгляд - это
очень важно. Он должен быть очень, очень умным или же "делать
вид, что..." Элегантная женщина непредставима в сочетании с
глупым взглядом, который, наоборот, пристал совершенной красоте.
Венера Милосская тому явный пример. Также приличествует элег-
антной женщине неприятный, антипатичный рот при условии, что
иногда, приоткрываясь, он чудом приобретает ангельски
неузнаваемое выражение. Нос элегантной женщины... Элегантные
женщины не имеют носа. Только у красавиц он есть! Волосы должны
быть здоровыми: это единственный здоровый компонент элегантной
женщины. Наконец, необходимо, чтобы ее терзали драгоценности и
платья - для нее это главный мотив бытия, чтобы она внутренне
истощалась, коллекционируя их, до такой степени, что ее любовь
была бы без эмоций, ее увлечение было строгим и требовательным.
Только грубая и алчная эротика, рафинированная и лишенная
чувства, может сочетаться с ее шиком! Что ей ее тело, которое она
всего лишь презирает!
Вот почему я пришел сюда, к элегантным женщинам, чье
приглушенное презрение к сладострастию было мне необходимо для
совершения "Парсифаля". В этот вечер надо было найти шесть элег-
антных презрительниц, которые могли бы буквально подчиниться мне,
шесть персон, свирепо, но равнодушно наслаждающихся. Мои широко
раскрытые глаза тщетно искали вокруг объекты моего желания. Были
красавицы, элегантных я не заметил. Срочно надо было идти на
кое-какие уступки, ведь "Флорида" была уже переполнена и других
женщин уже не будет. Один раз мне уже показалось, что появился
один приблизительный "Парсифаль". Но может ли существовать
приблизительная элегантность? Не тот ли это обман, когда вам
прописывают "приблизительное" лекарство и уговаривают вас принять
его?
Наконец, вошли две элегантные женщины и удачно уселись за
соседним столиком. Не хватало еще четырех. Но первые две были как
раз то, что мне нужно. Не знаю, насколько они безобразны, но их
ноги должны быть божественными, так же как и руки, которыми они
обнимают с таким хладнокровным цинизмом, что я вздрагиваю. Я
средне набрался второй бутылкой шампанского и мое сосредоточенное
внимание рассыпалось по подробностям моего плана. И Бог знает,
были ли эти подробности! Посмотрим: ты Дали или не Дали? Будь
серьезней, ты испортишь свой "Парсифаль". Элегантно ли это
запястье? Да, но надо его отдать другому рту. Если бы можно было
соединять человеческие существа. Итак, попробуй и действуй по-
хозяйски. Как тебе это понравится? Ты уже нашел три элегантных
подмышки, ищи рот, холодный взгляд. И не забывай, что тебе не
хватает еще одной подмышки... Сейчас, когда ты ее хорошо
различаешь, начни сначала; подмышка, руки, взгляд, руки, подмышк-
а. Еще быстрее: подмышка, руки, взгляд... Рот, подмышка, подмышк-
а, рот, рот, взгляд, взгляд, рот... Подходит?
Голова перестала кружиться и мною овладело желание вырвать.
На сей раз я не мог принять его за любовный страх. Позыв был так-
им сильным, что я аккуратно поднялся и вежливо спросил у
продавщицы папирос, одетой по моде времен Луи XV, где умывальник.
Она сделала мне знак, которого я не понял, и я вышел в комнату,
где стоял стол, покрытый напечатанными листами. Я оперся ладонями
о стол, и меня обильно стошнило. После первого потока я
остановился. Я знал, что это еще не все, что мне еще предстоит
литургическая работа - вырвать все. Продавщица папирос в костюме
времен Луи XV молча стояла на пороге и следила за мной. Я
протянул ей пятьдесят песет и попросил:
- Позвольте, я сейчас.
Я запер дверь на ключ и торжественно, как будто собирался
сделать харакири, подошел к столу. И снова вырвал, еле сознавая,
как из меня выходит душа, смешанная с выворачиваемыми
внутренностями. Будто бы два дня оргий вернулись ко мне, но
наизнанку, повторив, таким образом, христианский приговор:
"Первые будут последними". Тут было все: и горячий кролик, и две
выбритые подмышки, и анархия, и хамса, и абсолютная монархия,
горячий кролик, желчь, подмышки, желчь, желчь...
Когда не осталось больше ничего, я утер со лба струящийся пот
и слезы, стекавшие по щекам. Все прошло. Все, даже абсолютная
монархия, до самого донышка моего ностальгического и прискорбного
"Парсифаля".
Следующий день я провел в постели, попивая лимонный сок, а
послезавтра пошел в Академию изящных искусств, откуда меня
вечером исключили.
Придя, я нашел группу жестикулирующих студентов, которые
что-то оживленно обсуждали. У меня, кажется, было предчувствие
того, что должно было случиться, и я мог бы вспомнить сцену с
сожженным знаменем в Фигерасе. Второй раз мне предстояло стать
жертвой собственной легенды, как будто некоторые события моей
жизни, довольно ограниченные по теме, но страшно характерные и
несмешиваемые, развивались. Когда со мной что-то случается, как
было с вишней или костылем, будьте уверены, на том дело не
кончится, до самой моей смерти будут другие приключения с другими
вишнями и другими костылями. Знай я это - и при первом моем
исключении предвидел бы уже второе событие, ясное любому рассудку
без паранойального внушения.
Но вернемся к ученикам, встреченным мной в Академии. Я
поспешил узнать у них причину их. возмущения. Они предложили мне
быть не более не менее как знаменосцем их нонконформизма.
Готовился конкурс на должность профессора живописи. Конкурсантов
было множество, поскольку- этот класс был очень прославленным.
Профессоракандидаты выполняли каждый по две картины, одну
обязательную, другую произвольную. Только что их выставили в Ак-
адемии. Но все казалось жалкой посредственностью, кроме работ
Даниэля Васкеса Диаса, стиль которого соответствовал тому, что
называли тогда "постимпрессионизмом". Мои семена упали на бл-
агодатную почву, и уже немало учеников среди самых активных и
одаренных восторгались Васкесом Диасом, который, не будучи еще
кубистом, был под сильным влиянием кубизма и многое воспринял из
того, что не признавали у меня.
По логике вещей я должен был стать сторонником Васкеса Диаса.
К несчастью, ученики узнали, что из-за чьих-то гнусных интриг он
был побежден кем-то, кто нисколько не заслужил победы на
конкурсе. Я пошел со своими товарищами в выставочный зал. Сомн-
ений не было. Я сразу согласился с ними, хотя в глубине души
предпочел бы не известного никому старого академика, который хотя
бы умел смешивать краски. Но такой вид полностью вымер уже
несколько лет тому назад. Поэтому я выступал за Васкеса Диаса. Во
второй половине дня он кратко рассказал о своих педагогических
принципах. Потом жюри удалилось, чтобы посовещаться, а
вернувшись, заявило, что назначен другой профессор. Я бесшумно
поднялся и вышел еще до того, как председательствующий произнес
заключительное слово. Меня ждали мои друзья по группе: они
принимали участие в собрании республиканских интеллектуалов под
руководством Мануэля Асанья (позже он стал президентом Испанской
республики).
Когда на следующий день я пришел в Академию, среди учеников
царила паника. Мне сообщили, что меня исключают из-за инцидента
накануне. Я не принял этого всерьез, поскольку думал, что мой
незаметный уход не мог быть причиной исключения. Но, оказывается,
после моего молчаливого протеста ученики выступили против членов
жюри, угрожали им и даже напали на них, из-за чего академикам
пришлось запереться на ключ в одном из залов Академии. Им не
удалось бы отсидеться, потому что разъяренные ученики уже
пробовали выломать дверь, но тут подоспела конная полиция. Главой
бунта, подавшим первый знак к возмущению, сочли меня. Я
защищался, утверждая, что ничего подобного не было. И все же меня
исключили из Академии на год. Какое-то время после этого я был в
Фигерасе. Там меня арестовали гражданские гвардейцы и даже
заключили в городскую тюрьму Жероны. Вскоре, правда, освободили:
следствие не сумело найти ни одной причины, чтобы задержать меня
на длительный срок. Я застал Каталонию в разгаре революции.
Генерал Примоде Ривера - отец Хосе Антонио, будущего создателя
Фаланги - энергично, хотя и довольно мягко подавил восстание в
самом начале. Все мои друзья детства по Фигерасу стали
революционерами и сепаратистами. Отец по своей должности
нотариуса засвидетельствовал некоторые злоупотребления и
нарушения Дворца во время выборов. Я же без конца только и
говорил об анархии, монархии, стремясь объединить их и внося свой
вклад во всеобщую путаницу умов.
Мое заключение упрочило мою славу. А для меня это было очень
приятное времяпровождение. Меня поместили вместе с
политзаключенными, друзья и родители которых завалили меня
подарками. По вечерам мы пили шампанское. Я писал продолжение "Ла
Тур де Бабель" и мысленно вновь переживал последние мадридские
дни, извлекая из них замечательный опыт. Я был счастлив вновь
увидеть прекрасный пейзаж Ампурдана. Только любуясь им сквозь
решетки жеронской тюрьмы, я наконец понял, что все-таки немного
состарился. Это было все, чего я желал и все, что дала мне
мадридская жизнь. Мне было приятно почувствовать себя немного
старее - даже сидя в тюрьме. Какая разрядка для