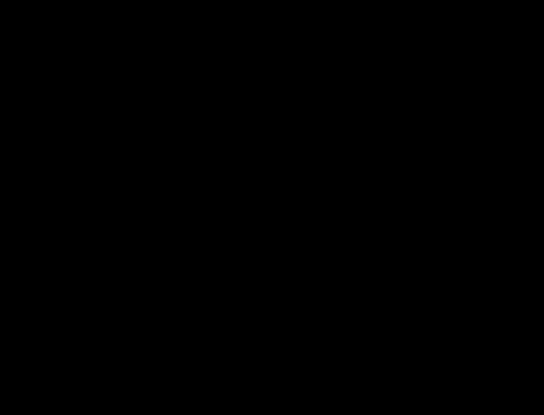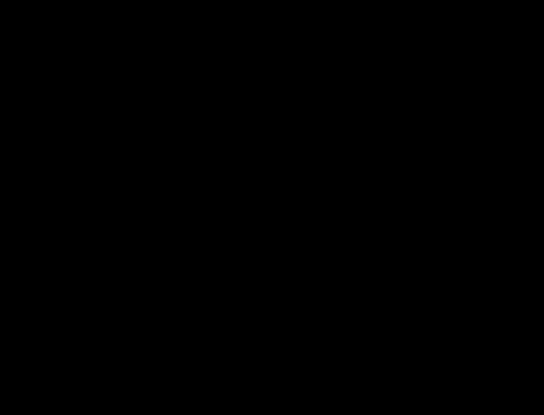Глава седьмая
"Это" - Философские штудии -
Неутоленная любовь - Открытия в технике -
Мой "каменный век" - Конец любви -
Смерть мамы
Я вырос. В Кадакeсе, в имении г-на Пичота, кипарис посреди
двора тоже подрос. Мои щеки наполовину покрывают бакенбарды в
виде котлет. Я одеваюсь только в костюмы тонкого черного бархата
и, прогуливаясь, попыхиваю трубочкой в виде головы смеющегося
араба. Во время экскурсии к развалинам Ампуриаса хранитель
местного музея продал моим родителям серебряную монету,
украшенную греческим женским профилем. Я прикрепил ее на
галстучную булавку и всегда ношу с собой, утверждая, что это
портрет Троянской Елены. Я никогда не выхожу из дому без
тросточки - их у меня собралась целая коллекция, а у самой
красивой золотой набалдашник в виде двухглавого орла. Я вырос. И
мои руки тоже. "Это" случилось однажды вечером в туалете
Института и ужасно меня разочаровало. Мной овладело чувство вины:
я был уверен, что "это" совсем другое. Вопреки своему
разочарованию, я снова прибегнул к "этому", уговаривая себя, что
"это" будет в последний раз.
Но спустя три дня искушение повторилось. Мне редко удавалось
сопротивляться ему подолгу, и чем дольше я боролся с собой, тем
дольше затем тянулось "это". И это еще не все!
Я все более ревностно изучал рисунок и это помогало заглушить
угрызения совести, вызванные моим падением. Все вечера я проводил
в Школе, занимаясь рисунком. Мой учитель месье Нуньес был
блестящим рисовальщиком, подвижником изящных искусств, когда-то
он получил Римскую премию за лучшую гравюру. Он уводил меня к
себе, чтобы растолковать все тайны светотени, которые постиг в
совершенстве, и объяснить каждую линию оригинальных гравюр Рем-
брандта, которого он глубоко чтил. Я уходил от Нуньеса
взволнованный и вдохновленный, щеки мои горели от творческих ам-
биций, я был полон поистине религиозным почитанием искусства.
Вернувшись домой, я запирался в туалете и занимался "этим", день
ото дня все более совершенствуясь. Мой психологический склад
позволял мне делать "это" все с большими интервалами. Теперь я
больше не давал себе зарока, что это в последний раз, напротив,
обещал себе снова заняться "этим" в воскресенье. Мысль о
предстоящем наслаждении каким-то образом успокаивала мои
эротические мечты и я находил сладострастие в самом ожидании
воскресенья. Чем дольше я ждал, тем чудеснее становилось "это",
сам акт удваивался приятными головокружениями.
В коллеже я оставался весьма посредственном студентом. Все
как один советовали моему отцу отпустить меня в художники. Г-н
Нуньес, абсолютно уверовавшей в мой талант, настаивал больше
всех, но отец ничего не желал менять. Он не хотел, чтобы я
становился художником. И тем не менее делал все от него зависяще-
е, чтобы развивать мои наклонности: покупал мне книги, журналы и
все необходимые инструменты и материалы.
- Все решим, когда он станет бакалавром, - говорил он.
Для себя я давно все решил! А пока я не читал - глотал книги
из отцовской библиотеки. И за два года я перечитал их все.
"Философский словарь" Вольтера произвел на меня огромное
впечатление, а вот "Так говорил Заратустра", по моему мнению, я
мог бы написать лучше. Самым моим любимым наставником стал Кант,
из которого я не понял ровным счетом ничего - и это наполняло
меня гордостью и удовлетворением. Я обожал блуждать в лабиринте
его рассуждений, которые отзывались во мне небесной музыкой.
Человек, написавший такие важные и бесполезные книги, был не
иначе как ангелом! Мое пристрастие к книгам, которых я не поним-
ал, шло от огромной духовной жажды. Как иногда нехватка кальция в
организме заставляет детей соскребать и съедать известь и штук-
атурку со стен, точно так же мой дух нуждался в этих категоричных
императивах, которые я пережевывал в те годы, не глотая. И вдруг
однажды мне удалось проглотить! Дверца открылась, и я все понял.
От Канта я-перешел к Спинозе и увлекся им. Все, что я усвоил,
позже стало методической и логической основой моих дальнейших
поисков. Начав читать философию со смехом, закончил это чтение в
слезах. То, что не могли сделать романы и театральные постановки,
совершилось в тот же день, когда мне открылось ослепительное
определение априорного знания. Еще и сегодня, когда меня уже не
интересует чистая философия, примеры, которые приводит Кант,
говоря о практическом разуме, вызывают у меня слезы на глазах.
По вечерам в коллеже один их профессоров вел факультатив по
философии, и я тотчас же записался к нему. Той весной нам жилось
особенно славно, и занятия проходили, по Платону, на свежем
воздухе, под сосной, увитой плющом. Помощницами профессора были
многочисленные девицы. Я не был знаком с ними и всех находил
очень хорошенькими. Я выбрал одну. Наши взгляды встретились. Она
тоже выбрала меня. Это было так очевидно, что мы поднялись и ушли
не сговариваясь. Охватившее нас чувство было столь сильным, что
мы не произнесли ни слова и лишь ускоряли шаги, и наконец,
побежали, как сумасшедшие, и бежали до самой вершины холма, а за
холмом оказались в чистом поле, на маленькой тропинке меж двух
хлебных полей. Девушка изредка бросала на меня пылкие взгляды,
как бы меня подбадривая, и задыхалась, не в силах произнести ни
слова. А я только и смог сказать, показывая ей на что-то вроде
ниши в полегшей пшенице:
- Здесь!
Она бросилась наземь, растянувшись во весь рост, и показалась
мне вдруг очень рослой, немного больше, нежели я думал. Она была
очень белая, с красивыми грудями - обняв ее, я чувствовал, как
они шевелятся под корсажем, как два живых существа. Я долго
целовал ее в губы, а когда они приоткрылись, я прижался ртом к ее
зубам так, что мне сделалось больно. У нее был сильный насморк, в
руке она держала крошечный носовой платок, которым утирала нос, и
он вымок насквозь. У меня не было с собой платка, чтобы
предложить ей, и я не знал, что делать. Она поминутно сморкалась,
сопли-то и дело набегали на краешки ее ноздрей, смущаясь, она
отворачивалась и сморкалась в подол юбки. Я хотел ее еще раз
поцеловать, чтобы показать -мне не противно, и это была правда,
ее жидкие прозрачные сопли текли точь-в-точь как слезы. И я все
время забывал, что у нее простуда, мне казалось, она плачет.
- Я тебя не люблю, - сказал я ей в утешение. - Я вообще не
могу любить женщин. Я всегда буду один.
Сказав это, я почувствовал у себя на щеке клейкие сопли
девушки. Ко мне вернулось спокойствие. И в то же время я принял
дальнейший план действий с таким холодным расчетом, что ощутил,
как замерзает моя собственная душа. Как в эту минуту я мог так
владеть собой? Девушка моя, напротив, становилась все более
смущенной. Видимо, насморк развил в ней комплекс неполноценности.
Я дружески обнял ее. Ниточки ее соплей так крепко пристали к моей
щеке, что мне пришлось сделать вид, будто я хотел погладить лицом
ее плечо, чтобы отделаться от них. Она вся взмокла во время
нашего безумного бега, и теперь я вдыхал тонкий запах пота из ее
подмышки, - напоминавший смесь гелиотропа, овцы и жареного кофе.
Когда я поднял голову, она посмотрела на меня с горьким
разочарованием:
- Так мы не увидимся?
Помогая ей подняться, я успокоил ее.
- Завтра - само собой. И еще пять лет. Но ни днем больше.
Таким был мой пятилетний план. И в самом деле, она была моей
возлюбленной на протяжении пяти лет, не считая каникул,
проведенных в Кадакесе. Все это время она хранила мне какую-то
мистическую верность. Я виделся с ней только вечерами, в удобные
мне часы. Когда же мне хотелось побыть одному, я через уличного
мальчишку посылал ей записочку. Чтобы встретиться со мной, она
пускалась на тысячу ухищрений, прибегая к помощи подруг и их
кавалеров. Но мне это не нравилось, и мы почти всегда встречались
наедине в поле.
Эта пятилетняя идиллия позволила мне пустить в ход все запасы
моей извращенной чувствительности. Сперва я сильно привязал ее к
себе. Затем цинично распределил частоту наших встреч, сюжеты
разговоров, мои собственные обманы, на изобретение которых я был
горазд. Мое влияние на нее увеличивалось с каждым днем. Это было
методическое оболыцение, окружение, уничтожение, убийство. Стоило
мне почувствовать, что мы дошли до "точки", до предела, как я тут
же начинал требовать жертв. Разве она не повторяла мне без конца,
что готова умереть ради меня? Хорошо же, поглядим, так ли это!
Читателю, готовому приписать успех этой страсти моим
качествам Дон Жуана, подскажу, что между мной и девушкой на
протяжении пяти лет ровным счетом ничего не происходило. Я
целовал ее в губы, гладил ее груди и смотрел в глаза. Вот,
собственно, и все. Ее чувство неполноценности, несомненно,
проистекало из первого дня нашей встречи, из так смущавшего ее
насморка. Она жаждала оправдать себя в моих глазах, и чем я
казался холодней, тем больше это подстегивало ее любовь и
увеличивало тревожную жажду, все более тонкую и отвлеченную,
подтолкнувшую ее к нервному кризу. Неутоленная любовь была для
меня, после этого опыта, самой большой галлюцинацией в мифологии
чувств. Тристан и Изольда были прототипами одной из таких
трагедий неутоленной любви - жестокого каннибала чувств,
пожирающего самца во время соития. Мы оба знали, что я не люблю
ее. Из неутоленной любви моя возлюбленная воздвигла храм своих
моральных пыток. Я знал, что не люблю ее, она знала, что я не
люблю ее, я знал, что она знает, что я не люблю ее, она знала,
что я знаю, что она знает, что я не люблю ее. Мое одиночество
ничто не тревожило, и я даже мог воспринимать свои "принципы
лирических действий" как нечто прекрасное, в эстетической форме.
Я был уверен, что любить, как я обожаю мою Галючку, мою Дуллиту
Редивива, значило совсем другое - полное уничтожение всех чувств.
Моя возлюбленная, напротив, служила мне мишенью. Я испробывал на
ней ту меткость, которая служила мне и позже. Любовь включала в
себя еще и попадание пущенной стрелы. Она вонзилась в тело
девушки, но и я испытывал чувства Святого Себастьяна, будто
стрелы торчали в моей собственной плоти и я хотел освободиться от
них, подобно змее, сбрасывающей кожу. Сознавая, что не люблю ее,
я мог продолжать обожать мою Дуллиту, Галючку и других Прекрасных
Дам идеальной, абсолютной, прерафаэлитской любовью, потому что
обладал теперь возлюбленной во плоти и крови, с грудями и соплям-
и, которую я оболванил любовью к себе и крепко запер от своего
тела. Потаенное желание подняться на вершину башни не связывалось
у меня с ней, такой земной, такой реальной. Чем больше ее
поглощала страсть, тем хуже она выглядела в моих глазах и тем
меньше заслуживала башни. Мне хотелось, чтобы она сдохла. Иногда,
когда мы лежали в траве, я говорил ей: "Сделай, как будто ты ум-
ерла". Она скрещивала руки на груди и затаивала дыхание. Она так
долго была неподвижной, что в страхе, будто она и в самом деле
лишилась жизни, я начинал хлопать ее по щекам.
Она писала мне все более экзальтированные письма, на которые
я редко отвечал. А если делал это, то обязательно не упускал
случая ядовито уколоть ее, чтобы она пожелтела от досады и чтобы
отравить ей остаток лета.
В последние дни моих каникул в Кадакесе лило как из ведра. Я
забыл пиджак и промок до нитки. Письмо от моей возлюбленной,
которое я взял с собой на прогулку, намокло, чернила почти
смылись. Я направился в пустующее имение г-на Пичота к моему
любимому кипарису, который вырастал, как на дрожжах. Машинально я
скатал письмо в такой плотный шар, что, как я заметил, он стал
похож на шары кипариса, которые на изломах напоминали кость
черепа. Сходство так бросалось в глаза, что я решил заменить два
плода моими бумажными шарами. Потом продолжил прогулку к морю и,
осыпаемый брызгами водяной пыли, пробыл на берегу больше часа,
пока не стемнело. Привкус морской соли на губах воскресил в моей
памяти неизбежный миф о Бессмертии. Обратно я шел в темноте,
наугад, и вдруг, вздрогнув, поднес руку к сердцу: меня как будто
укололо. Я чуть не столкнулся с кипарисом Пичота, два бумажных
шара светились во мраке, как два чудовищных глаза. Предчувствие
пронзило меня: она умерла? Обливаясь холодным потом, я поспешно
вернулся домой, где нашел новое письмо от нее: "Я поправилась.
Все говорят, что я хорошо выгляжу, а меня интересует только одно:
что скажешь ты, когда увидишь меня. Целую тебя тысячу и один раз.
Не забываю тебя ни на миг..." Вот идиотка!
Мой отец сменил гнев на милость. Хорошо его зная, я готовился
стать художником после экзамена на степень бакалавра. Надо было
ждать еще три года, но речь шла о Мадридской Школе изящных
искусств или даже Римской - и я одержал победу. Я взбунтовался
против идеи следовать обычным путем. Я хотел быть свободным,
чтобы никто не имел права вмешиваться в мой внутренний мир. Я
предполагал уже борьбу насмерть со своими профессорами. У того,
что я планировал, не должно было быть свидетелей.
Единственный свидетель той поры, месье Нуньес, не знал больше
со мной покоя. Каждый день я ошеломлял его и задавал ему
неразрешимые загадки. У меня был период открытий и технике. Они
были совершенно оригинальны: ведь я последовательно делал все
наоборот, а не так, как говорил мой профессор.
Как-то мы рисовали старого нищего с белоснежной мелко
вьющейся бородой. Месье Нуньес указал мне, что мой рисунок
слишком заштрихован карандашом и что я не передал пушистости этой
белоснежной бороды. Нужно взять чистый лист, сказал он, оставить
как можно больше белого и лишь слегка касаться бумаги мягким
карандашом. Профессор отошел, а я продолжал все больше и больше
чернить и грязнить рисунок. Мне казалось, что все студийцы
столпились вокруг меня. И в этот момент из чувства противоречия я
вдруг понял, что близок к верному решению. Я продолжал штриховать
так усердно, что мой рисунок превратился в сплошные черные пятна.
Подойдя ко мне для поправки еще раз, месье Нуньес в отчаянии
вскричал:
- Вы все сделали вопреки моим советам - и вот результат!
Ни на секунду ни растерявшись, я ответил, что нашел выход, и
покрыл свой рисунок китайской тушью.
- Вы хотите сделать негатив, - сказал месье Нуньес.
- Я хочу сделать в точности то, что вижу.
- Если вы надеетесь использовать мел, то ошибаетесь. Мел не
держится на китайской туши.
Он отошел, качая головой. Оставшись один, я вынул перочинный
нож и начал скоблить бумагу. Сквозь тушь появилась яркая белизна.
Борода нищего внезапно возникла из черноты моего рисунка с
необычайной точностью. Когда мне понадобился более темный оттенок
белого, я плюнул на рисунок, растер и добился плавных серых
переходов. Разлохматившаяся масса бумаги великолепно передавала
шелковистый пушок бороды нищего(Позднее, наблюдая акварели
Мариано фортуни, изобретателя "испанского колорита", одного из
самых лучших рисовальщиков в мире, я убедился, что он использовал
подобные специальные соскребы, чтобы добиться сияющей белизны;
это удавалось ему лучше, чем мне, благодаря его рельефам и
неровностям, в которых отражался свет, что усиливало эффект
свечения). Я завершил мое творение, осветив рисунок рассеяным
светом.
Увидев мою работу, месье Нуньес утратил дар речи. Он так
растерялся, что не мог выразить своего восторга, и обнял меня так
сильно, что я задохнулся, а потом повторял почти слово в слово
реплику Мартина Виллановы: "Смотрите! До чего он велик, этот
Дали!"
Эта история натолкнула меня на размышления о свойствах света
и возможностях его передачи. Мои поиски длились целый год, и я
пришел к выводу, что только рельеф самой краски, умело положенной
на холст, передает этот эффект глазам. Это было время, которое
мои родители назвали "каменным веком". Камешками я пользовался,
чтобы добиться, к примеру, сияющих облаков. Я наклеивал их на
полотно и затем подкрашивал нужными цветами. Самым удачным в этом
роде был закат солнца в багряных облаках. Небо было выполнено
камнями разной величины, некоторые были размером с яблоко. Эта
картина долго висела на стене семейной столовой, и я помню, как
однажды мирную вечернюю трапезу прервал внезапный шум: это
отклеивались и падали на пол камни. Мама перестала есть, а отец
успокоил ее:
- Это всего лишь камень, которое падает с неба нашего дитяти.
- И добавил:
- Мысль сама по себе хорошая, но кто захочет купить картину,
которая рассыпается да еще заваливает камнями весь дом?
Для жителей Фигераса мои творческие поиски стали темой
постоянных шуточек. Они со смехом повторяли: "Вот теперь, когда
сын Дали начиняет камнями свой картины!.." В период "каменного
века" меня попросили подготовить несколько работ для местной
выставки. В ней участвовали около тридцати художников, которые
приехали из Жероны и Барселоны. Мои произведения были замечены.
Два известнейших критика, Карлос Коста и Пуиг Пожадес, объявили,
что открыли новое дарование, и сулили мне блестящую карьеру.
Первые признаки славы усиливали страсть моей возлюбленной, а
я пользовался этим, чтобы еще больше подчинить ее, сделать рабой
своих прихотей, чтобы она совсем отказалась от своих друзей и
подруг. Она должна была существовать лишь для меня одного, в
единственном числе - дневник, открытый для славы. Как только я
узнавал, что она с кем-то познакомилась, стоило ей о ком-то
снисходительно упомянуть, я тут же стремился развенчать этого
"кого-то" в ее глазах. И мне всегда это удавалось - я находил в
нем какую-нибудь черту и безжалостно ее высмеивал. Ее чувства
должны были приноравливаться к моим желаниям, ни больше ни
меньше. Все нарушения установленного мной порядка тут же жестоко
подавлялись. От моего презрительного слова она готова была ум-
ереть, ибо, отчаявшись быть любимой, желала сохранить хотя бы мое
уважение. Вся ее жизнь укладывалась в полчаса прогулки со мной -
а я все реже уделял ей время. Все приближалось к концу. У меня на
горизонте маячил дворец Академии изящных искусств, с его
лестницами, фронтонами, колоннами и славой. Я говорил своей во-
злюбленной:
- Ты мне еще пригодишься. Но у тебя не больше года.
Ради нескольких минут нашей встречи она жила и старалась быть
красивой. Румянец бросался ей в лицо всякий раз, когда она
обижалась на меня, и я, безошибочно определяя это, каждый день
заставлял ее плакать. На прогулке я показывал ей номера "Эспри
нуво", который я выписывал. Она смиренно пыталась хоть что-то
понять из репродукций кубистов. В это время у меня было
увлечение, которое я помпезно называл "Категорический императив
мистицизма Хуана Гриса". Моя возлюбленная ничего не понимала в
моих загадочных заявлениях: "Слова, - говорил я ей, - это
блестящая вещь, острая и режущая, как раскрытые ножницы". Она
впитывала каждое мое слово и сохраняла его в сердце.
- Как ты вчера сказал об этих раскрытых ножницах?
На наших прогулках мы часто видели издалека внушительную
массу "Мулен де ла Тур". Там я любил садиться и вперяться вдаль.
- Видишь, - говорил я ей, - это белое пятно свидетельствует,
что здесь сидел Далито.
Она смотрела и не видела ничего из того, что я ей показывал.
В руке я держал ее грудь. Когда мы встречались, ее юная грудь
становилась твердой, как камень.
- Покажи их мне, - приказывал я.
Она расстегивала корсаж и показывала свои прекрасные, нежной
белизны груди. Соски были как две смородины, а вокруг был
легчайший пушок, как на настоящих плодах. Она хотела
застегнуться, но я приказывал ей немного взволнованным голосом:
"Нет! Еще!" Она опускала руки вдоль тела и прятала глаза. Ее
грудь вздымалась. Когда я позволял ей застегнуться, она
подчинялась со слабой улыбкой. Я нежно брал ее за руку и мы
возвращались назад.
-Знаешь, когда я буду в Мадриде, тебе писать не стану.
Еще десяток шагов - и она плачет. Я страстно ее обнимаю и
чувствую, что ее слезы, крупные, как лесные орехи, радостно
обжигают меня.
В моих помыслах блестит слава, как раскрытые ножницы.
Работай, работай, Сальвадор! Ты способен не только на жестокость,
но и на работу. Моя работоспособность вызывала у всех уважение. Я
вставал в семь утра и не знал отдыха весь день. Даже прогулки с
девушкой входили в мою программу: работа соблазна. Родители
всегда повторяли: "Он никогда не развлекается! Он не отдыхает ни
минуты! Ты молод, Сальвадор. Пользуйся своим возрастом". А у.
меня в мыслях было совсем другое, противоположное: "Торопись
стареть! Ты ужасно незрел и суров". Как бы мне избавится от этого
ребяческого недостатка, именуемого юностью?
Прежде чем стать кубистом, надлежало выучиться рисовать. Но
это не могло остудить мой пыл деятельности. Мне хотелось быть
изобретателем и описать великие философские открытия, как
написанная годом позже "Ла Тур де Бабель" ("Вавилонская Башня").
Я уже наплодил полтысячи страниц и это был пока только пролог.
Сексуальное волнение уступало место философскому беспокойству,
больше ничего меня не занимало. "Ла Тур де Бабель" начиналась дл-
инным изложением феномена смерти, на нем, как я думал,
основывались все воображаемые конструкции. Антропоморфист, я не
принимал во внимание себя, как живого человека, а только в виде
ожившей "неодушевленной аморфности" моих причуд. То, что ниже "Ла
Тур де Бабель" было для всех понятной жизнью, для меня было см-
ертью и хаосом, И, наоборот, все, что было выше и казалось другим
мешаниной, беспорядком, было для меня "логосом" и возрождением.
Моя жизнь, в постоянной борьбе за утверждение личности, была в
каждый миг новеллой о победе моего "Я" над смертью, тогда как в
своем окружении я видел только сплошной компромисс с этой см-
ертью. Я же отказывался вступать с ней в сговор.
Смерть моей матери, в том же году, была для меня самой
большой из потерь. Я обожал ее. Для меня она - единственная и
неповторимая. Я знал, что ее золотая, ее святая душа настолько
выше всего самого человечного, и не мог смириться с утратой
существа, на которое бессознательно расчитывал невидимыми
изъянами своей души. Она была так добра, что я думал: "Этого
хватит и на меня". Она любила меня всепоглощающей и возвышенной
любовью - а значит, не могла заблуждаться. Даже мои злые выходки
должны быть чем-то чудесным! Ее смерть показалась мне насмешкой
Судьбы. Невозможно, чтобы такое произошло с ней или со мной.
Мстительное чувство наполняло мое сердце. Стиснув зубы, я
поклялся, что вырву мать у смерти и судьбы, даже если потребуются
для этого снопы света, которые в один прекрасный день дико
засверкают вокруг моего прославленного имени!
Глава седьмая
"Это" - Философские штудии -
Неутоленная любовь - Открытия в технике -
Мой "каменный век" - Конец любви -
Смерть мамы
Я вырос. В Кадакeсе, в имении г-на Пичота, кипарис посреди
двора тоже подрос. Мои щеки наполовину покрывают бакенбарды в
виде котлет. Я одеваюсь только в костюмы тонкого черного бархата
и, прогуливаясь, попыхиваю трубочкой в виде головы смеющегося
араба. Во время экскурсии к развалинам Ампуриаса хранитель
местного музея продал моим родителям серебряную монету,
украшенную греческим женским профилем. Я прикрепил ее на
галстучную булавку и всегда ношу с собой, утверждая, что это
портрет Троянской Елены. Я никогда не выхожу из дому без
тросточки - их у меня собралась целая коллекция, а у самой
красивой золотой набалдашник в виде двухглавого орла. Я вырос. И
мои руки тоже. "Это" случилось однажды вечером в туалете
Института и ужасно меня разочаровало. Мной овладело чувство вины:
я был уверен, что "это" совсем другое. Вопреки своему
разочарованию, я снова прибегнул к "этому", уговаривая себя, что
"это" будет в последний раз.
Но спустя три дня искушение повторилось. Мне редко удавалось
сопротивляться ему подолгу, и чем дольше я боролся с собой, тем
дольше затем тянулось "это". И это еще не все!
Я все более ревностно изучал рисунок и это помогало заглушить
угрызения совести, вызванные моим падением. Все вечера я проводил
в Школе, занимаясь рисунком. Мой учитель месье Нуньес был
блестящим рисовальщиком, подвижником изящных искусств, когда-то
он получил Римскую премию за лучшую гравюру. Он уводил меня к
себе, чтобы растолковать все тайны светотени, которые постиг в
совершенстве, и объяснить каждую линию оригинальных гравюр Рем-
брандта, которого он глубоко чтил. Я уходил от Нуньеса
взволнованный и вдохновленный, щеки мои горели от творческих ам-
биций, я был полон поистине религиозным почитанием искусства.
Вернувшись домой, я запирался в туалете и занимался "этим", день
ото дня все более совершенствуясь. Мой психологический склад
позволял мне делать "это" все с большими интервалами. Теперь я
больше не давал себе зарока, что это в последний раз, напротив,
обещал себе снова заняться "этим" в воскресенье. Мысль о
предстоящем наслаждении каким-то образом успокаивала мои
эротические мечты и я находил сладострастие в самом ожидании
воскресенья. Чем дольше я ждал, тем чудеснее становилось "это",
сам акт удваивался приятными головокружениями.
В коллеже я оставался весьма посредственном студентом. Все
как один советовали моему отцу отпустить меня в художники. Г-н
Нуньес, абсолютно уверовавшей в мой талант, настаивал больше
всех, но отец ничего не желал менять. Он не хотел, чтобы я
становился художником. И тем не менее делал все от него зависяще-
е, чтобы развивать мои наклонности: покупал мне книги, журналы и
все необходимые инструменты и материалы.
- Все решим, когда он станет бакалавром, - говорил он.
Для себя я давно все решил! А пока я не читал - глотал книги
из отцовской библиотеки. И за два года я перечитал их все.
"Философский словарь" Вольтера произвел на меня огромное
впечатление, а вот "Так говорил Заратустра", по моему мнению, я
мог бы написать лучше. Самым моим любимым наставником стал Кант,
из которого я не понял ровным счетом ничего - и это наполняло
меня гордостью и удовлетворением. Я обожал блуждать в лабиринте
его рассуждений, которые отзывались во мне небесной музыкой.
Человек, написавший такие важные и бесполезные книги, был не
иначе как ангелом! Мое пристрастие к книгам, которых я не поним-
ал, шло от огромной духовной жажды. Как иногда нехватка кальция в
организме заставляет детей соскребать и съедать известь и штук-
атурку со стен, точно так же мой дух нуждался в этих категоричных
императивах, которые я пережевывал в те годы, не глотая. И вдруг
однажды мне удалось проглотить! Дверца открылась, и я все понял.
От Канта я-перешел к Спинозе и увлекся им. Все, что я усвоил,
позже стало методической и логической основой моих дальнейших
поисков. Начав читать философию со смехом, закончил это чтение в
слезах. То, что не могли сделать романы и театральные постановки,
совершилось в тот же день, когда мне открылось ослепительное
определение априорного знания. Еще и сегодня, когда меня уже не
интересует чистая философия, примеры, которые приводит Кант,
говоря о практическом разуме, вызывают у меня слезы на глазах.
По вечерам в коллеже один их профессоров вел факультатив по
философии, и я тотчас же записался к нему. Той весной нам жилось
особенно славно, и занятия проходили, по Платону, на свежем
воздухе, под сосной, увитой плющом. Помощницами профессора были
многочисленные девицы. Я не был знаком с ними и всех находил
очень хорошенькими. Я выбрал одну. Наши взгляды встретились. Она
тоже выбрала меня. Это было так очевидно, что мы поднялись и ушли
не сговариваясь. Охватившее нас чувство было столь сильным, что
мы не произнесли ни слова и лишь ускоряли шаги, и наконец,
побежали, как сумасшедшие, и бежали до самой вершины холма, а за
холмом оказались в чистом поле, на маленькой тропинке меж двух
хлебных полей. Девушка изредка бросала на меня пылкие взгляды,
как бы меня подбадривая, и задыхалась, не в силах произнести ни
слова. А я только и смог сказать, показывая ей на что-то вроде
ниши в полегшей пшенице:
- Здесь!
Она бросилась наземь, растянувшись во весь рост, и показалась
мне вдруг очень рослой, немного больше, нежели я думал. Она была
очень белая, с красивыми грудями - обняв ее, я чувствовал, как
они шевелятся под корсажем, как два живых существа. Я долго
целовал ее в губы, а когда они приоткрылись, я прижался ртом к ее
зубам так, что мне сделалось больно. У нее был сильный насморк, в
руке она держала крошечный носовой платок, которым утирала нос, и
он вымок насквозь. У меня не было с собой платка, чтобы
предложить ей, и я не знал, что делать. Она поминутно сморкалась,
сопли-то и дело набегали на краешки ее ноздрей, смущаясь, она
отворачивалась и сморкалась в подол юбки. Я хотел ее еще раз
поцеловать, чтобы показать -мне не противно, и это была правда,
ее жидкие прозрачные сопли текли точь-в-точь как слезы. И я все
время забывал, что у нее простуда, мне казалось, она плачет.
- Я тебя не люблю, - сказал я ей в утешение. - Я вообще не
могу любить женщин. Я всегда буду один.
Сказав это, я почувствовал у себя на щеке клейкие сопли
девушки. Ко мне вернулось спокойствие. И в то же время я принял
дальнейший план действий с таким холодным расчетом, что ощутил,
как замерзает моя собственная душа. Как в эту минуту я мог так
владеть собой? Девушка моя, напротив, становилась все более
смущенной. Видимо, насморк развил в ней комплекс неполноценности.
Я дружески обнял ее. Ниточки ее соплей так крепко пристали к моей
щеке, что мне пришлось сделать вид, будто я хотел погладить лицом
ее плечо, чтобы отделаться от них. Она вся взмокла во время
нашего безумного бега, и теперь я вдыхал тонкий запах пота из ее
подмышки, - напоминавший смесь гелиотропа, овцы и жареного кофе.
Когда я поднял голову, она посмотрела на меня с горьким
разочарованием:
- Так мы не увидимся?
Помогая ей подняться, я успокоил ее.
- Завтра - само собой. И еще пять лет. Но ни днем больше.
Таким был мой пятилетний план. И в самом деле, она была моей
возлюбленной на протяжении пяти лет, не считая каникул,
проведенных в Кадакесе. Все это время она хранила мне какую-то
мистическую верность. Я виделся с ней только вечерами, в удобные
мне часы. Когда же мне хотелось побыть одному, я через уличного
мальчишку посылал ей записочку. Чтобы встретиться со мной, она
пускалась на тысячу ухищрений, прибегая к помощи подруг и их
кавалеров. Но мне это не нравилось, и мы почти всегда встречались
наедине в поле.
Эта пятилетняя идиллия позволила мне пустить в ход все запасы
моей извращенной чувствительности. Сперва я сильно привязал ее к
себе. Затем цинично распределил частоту наших встреч, сюжеты
разговоров, мои собственные обманы, на изобретение которых я был
горазд. Мое влияние на нее увеличивалось с каждым днем. Это было
методическое оболыцение, окружение, уничтожение, убийство. Стоило
мне почувствовать, что мы дошли до "точки", до предела, как я тут
же начинал требовать жертв. Разве она не повторяла мне без конца,
что готова умереть ради меня? Хорошо же, поглядим, так ли это!
Читателю, готовому приписать успех этой страсти моим
качествам Дон Жуана, подскажу, что между мной и девушкой на
протяжении пяти лет ровным счетом ничего не происходило. Я
целовал ее в губы, гладил ее груди и смотрел в глаза. Вот,
собственно, и все. Ее чувство неполноценности, несомненно,
проистекало из первого дня нашей встречи, из так смущавшего ее
насморка. Она жаждала оправдать себя в моих глазах, и чем я
казался холодней, тем больше это подстегивало ее любовь и
увеличивало тревожную жажду, все более тонкую и отвлеченную,
подтолкнувшую ее к нервному кризу. Неутоленная любовь была для
меня, после этого опыта, самой большой галлюцинацией в мифологии
чувств. Тристан и Изольда были прототипами одной из таких
трагедий неутоленной любви - жестокого каннибала чувств,
пожирающего самца во время соития. Мы оба знали, что я не люблю
ее. Из неутоленной любви моя возлюбленная воздвигла храм своих
моральных пыток. Я знал, что не люблю ее, она знала, что я не
люблю ее, я знал, что она знает, что я не люблю ее, она знала,
что я знаю, что она знает, что я не люблю ее. Мое одиночество
ничто не тревожило, и я даже мог воспринимать свои "принципы
лирических действий" как нечто прекрасное, в эстетической форме.
Я был уверен, что любить, как я обожаю мою Галючку, мою Дуллиту
Редивива, значило совсем другое - полное уничтожение всех чувств.
Моя возлюбленная, напротив, служила мне мишенью. Я испробывал на
ней ту меткость, которая служила мне и позже. Любовь включала в
себя еще и попадание пущенной стрелы. Она вонзилась в тело
девушки, но и я испытывал чувства Святого Себастьяна, будто
стрелы торчали в моей собственной плоти и я хотел освободиться от
них, подобно змее, сбрасывающей кожу. Сознавая, что не люблю ее,
я мог продолжать обожать мою Дуллиту, Галючку и других Прекрасных
Дам идеальной, абсолютной, прерафаэлитской любовью, потому что
обладал теперь возлюбленной во плоти и крови, с грудями и соплям-
и, которую я оболванил любовью к себе и крепко запер от своего
тела. Потаенное желание подняться на вершину башни не связывалось
у меня с ней, такой земной, такой реальной. Чем больше ее
поглощала страсть, тем хуже она выглядела в моих глазах и тем
меньше заслуживала башни. Мне хотелось, чтобы она сдохла. Иногда,
когда мы лежали в траве, я говорил ей: "Сделай, как будто ты ум-
ерла". Она скрещивала руки на груди и затаивала дыхание. Она так
долго была неподвижной, что в страхе, будто она и в самом деле
лишилась жизни, я начинал хлопать ее по щекам.
Она писала мне все более экзальтированные письма, на которые
я редко отвечал. А если делал это, то обязательно не упускал
случая ядовито уколоть ее, чтобы она пожелтела от досады и чтобы
отравить ей остаток лета.
В последние дни моих каникул в Кадакесе лило как из ведра. Я
забыл пиджак и промок до нитки. Письмо от моей возлюбленной,
которое я взял с собой на прогулку, намокло, чернила почти
смылись. Я направился в пустующее имение г-на Пичота к моему
любимому кипарису, который вырастал, как на дрожжах. Машинально я
скатал письмо в такой плотный шар, что, как я заметил, он стал
похож на шары кипариса, которые на изломах напоминали кость
черепа. Сходство так бросалось в глаза, что я решил заменить два
плода моими бумажными шарами. Потом продолжил прогулку к морю и,
осыпаемый брызгами водяной пыли, пробыл на берегу больше часа,
пока не стемнело. Привкус морской соли на губах воскресил в моей
памяти неизбежный миф о Бессмертии. Обратно я шел в темноте,
наугад, и вдруг, вздрогнув, поднес руку к сердцу: меня как будто
укололо. Я чуть не столкнулся с кипарисом Пичота, два бумажных
шара светились во мраке, как два чудовищных глаза. Предчувствие
пронзило меня: она умерла? Обливаясь холодным потом, я поспешно
вернулся домой, где нашел новое письмо от нее: "Я поправилась.
Все говорят, что я хорошо выгляжу, а меня интересует только одно:
что скажешь ты, когда увидишь меня. Целую тебя тысячу и один раз.
Не забываю тебя ни на миг..." Вот идиотка!
Мой отец сменил гнев на милость. Хорошо его зная, я готовился
стать художником после экзамена на степень бакалавра. Надо было
ждать еще три года, но речь шла о Мадридской Школе изящных
искусств или даже Римской - и я одержал победу. Я взбунтовался
против идеи следовать обычным путем. Я хотел быть свободным,
чтобы никто не имел права вмешиваться в мой внутренний мир. Я
предполагал уже борьбу насмерть со своими профессорами. У того,
что я планировал, не должно было быть свидетелей.
Единственный свидетель той поры, месье Нуньес, не знал больше
со мной покоя. Каждый день я ошеломлял его и задавал ему
неразрешимые загадки. У меня был период открытий и технике. Они
были совершенно оригинальны: ведь я последовательно делал все
наоборот, а не так, как говорил мой профессор.
Как-то мы рисовали старого нищего с белоснежной мелко
вьющейся бородой. Месье Нуньес указал мне, что мой рисунок
слишком заштрихован карандашом и что я не передал пушистости этой
белоснежной бороды. Нужно взять чистый лист, сказал он, оставить
как можно больше белого и лишь слегка касаться бумаги мягким
карандашом. Профессор отошел, а я продолжал все больше и больше
чернить и грязнить рисунок. Мне казалось, что все студийцы
столпились вокруг меня. И в этот момент из чувства противоречия я
вдруг понял, что близок к верному решению. Я продолжал штриховать
так усердно, что мой рисунок превратился в сплошные черные пятна.
Подойдя ко мне для поправки еще раз, месье Нуньес в отчаянии
вскричал:
- Вы все сделали вопреки моим советам - и вот результат!
Ни на секунду ни растерявшись, я ответил, что нашел выход, и
покрыл свой рисунок китайской тушью.
- Вы хотите сделать негатив, - сказал месье Нуньес.
- Я хочу сделать в точности то, что вижу.
- Если вы надеетесь использовать мел, то ошибаетесь. Мел не
держится на китайской туши.
Он отошел, качая головой. Оставшись один, я вынул перочинный
нож и начал скоблить бумагу. Сквозь тушь появилась яркая белизна.
Борода нищего внезапно возникла из черноты моего рисунка с
необычайной точностью. Когда мне понадобился более темный оттенок
белого, я плюнул на рисунок, растер и добился плавных серых
переходов. Разлохматившаяся масса бумаги великолепно передавала
шелковистый пушок бороды нищего(Позднее, наблюдая акварели
Мариано фортуни, изобретателя "испанского колорита", одного из
самых лучших рисовальщиков в мире, я убедился, что он использовал
подобные специальные соскребы, чтобы добиться сияющей белизны;
это удавалось ему лучше, чем мне, благодаря его рельефам и
неровностям, в которых отражался свет, что усиливало эффект
свечения). Я завершил мое творение, осветив рисунок рассеяным
светом.
Увидев мою работу, месье Нуньес утратил дар речи. Он так
растерялся, что не мог выразить своего восторга, и обнял меня так
сильно, что я задохнулся, а потом повторял почти слово в слово
реплику Мартина Виллановы: "Смотрите! До чего он велик, этот
Дали!"
Эта история натолкнула меня на размышления о свойствах света
и возможностях его передачи. Мои поиски длились целый год, и я
пришел к выводу, что только рельеф самой краски, умело положенной
на холст, передает этот эффект глазам. Это было время, которое
мои родители назвали "каменным веком". Камешками я пользовался,
чтобы добиться, к примеру, сияющих облаков. Я наклеивал их на
полотно и затем подкрашивал нужными цветами. Самым удачным в этом
роде был закат солнца в багряных облаках. Небо было выполнено
камнями разной величины, некоторые были размером с яблоко. Эта
картина долго висела на стене семейной столовой, и я помню, как
однажды мирную вечернюю трапезу прервал внезапный шум: это
отклеивались и падали на пол камни. Мама перестала есть, а отец
успокоил ее:
- Это всего лишь камень, которое падает с неба нашего дитяти.
- И добавил:
- Мысль сама по себе хорошая, но кто захочет купить картину,
которая рассыпается да еще заваливает камнями весь дом?
Для жителей Фигераса мои творческие поиски стали темой
постоянных шуточек. Они со смехом повторяли: "Вот теперь, когда
сын Дали начиняет камнями свой картины!.." В период "каменного
века" меня попросили подготовить несколько работ для местной
выставки. В ней участвовали около тридцати художников, которые
приехали из Жероны и Барселоны. Мои произведения были замечены.
Два известнейших критика, Карлос Коста и Пуиг Пожадес, объявили,
что открыли новое дарование, и сулили мне блестящую карьеру.
Первые признаки славы усиливали страсть моей возлюбленной, а
я пользовался этим, чтобы еще больше подчинить ее, сделать рабой
своих прихотей, чтобы она совсем отказалась от своих друзей и
подруг. Она должна была существовать лишь для меня одного, в
единственном числе - дневник, открытый для славы. Как только я
узнавал, что она с кем-то познакомилась, стоило ей о ком-то
снисходительно упомянуть, я тут же стремился развенчать этого
"кого-то" в ее глазах. И мне всегда это удавалось - я находил в
нем какую-нибудь черту и безжалостно ее высмеивал. Ее чувства
должны были приноравливаться к моим желаниям, ни больше ни
меньше. Все нарушения установленного мной порядка тут же жестоко
подавлялись. От моего презрительного слова она готова была ум-
ереть, ибо, отчаявшись быть любимой, желала сохранить хотя бы мое
уважение. Вся ее жизнь укладывалась в полчаса прогулки со мной -
а я все реже уделял ей время. Все приближалось к концу. У меня на
горизонте маячил дворец Академии изящных искусств, с его
лестницами, фронтонами, колоннами и славой. Я говорил своей во-
злюбленной:
- Ты мне еще пригодишься. Но у тебя не больше года.
Ради нескольких минут нашей встречи она жила и старалась быть
красивой. Румянец бросался ей в лицо всякий раз, когда она
обижалась на меня, и я, безошибочно определяя это, каждый день
заставлял ее плакать. На прогулке я показывал ей номера "Эспри
нуво", который я выписывал. Она смиренно пыталась хоть что-то
понять из репродукций кубистов. В это время у меня было
увлечение, которое я помпезно называл "Категорический императив
мистицизма Хуана Гриса". Моя возлюбленная ничего не понимала в
моих загадочных заявлениях: "Слова, - говорил я ей, - это
блестящая вещь, острая и режущая, как раскрытые ножницы". Она
впитывала каждое мое слово и сохраняла его в сердце.
- Как ты вчера сказал об этих раскрытых ножницах?
На наших прогулках мы часто видели издалека внушительную
массу "Мулен де ла Тур". Там я любил садиться и вперяться вдаль.
- Видишь, - говорил я ей, - это белое пятно свидетельствует,
что здесь сидел Далито.
Она смотрела и не видела ничего из того, что я ей показывал.
В руке я держал ее грудь. Когда мы встречались, ее юная грудь
становилась твердой, как камень.
- Покажи их мне, - приказывал я.
Она расстегивала корсаж и показывала свои прекрасные, нежной
белизны груди. Соски были как две смородины, а вокруг был
легчайший пушок, как на настоящих плодах. Она хотела
застегнуться, но я приказывал ей немного взволнованным голосом:
"Нет! Еще!" Она опускала руки вдоль тела и прятала глаза. Ее
грудь вздымалась. Когда я позволял ей застегнуться, она
подчинялась со слабой улыбкой. Я нежно брал ее за руку и мы
возвращались назад.
-Знаешь, когда я буду в Мадриде, тебе писать не стану.
Еще десяток шагов - и она плачет. Я страстно ее обнимаю и
чувствую, что ее слезы, крупные, как лесные орехи, радостно
обжигают меня.
В моих помыслах блестит слава, как раскрытые ножницы.
Работай, работай, Сальвадор! Ты способен не только на жестокость,
но и на работу. Моя работоспособность вызывала у всех уважение. Я
вставал в семь утра и не знал отдыха весь день. Даже прогулки с
девушкой входили в мою программу: работа соблазна. Родители
всегда повторяли: "Он никогда не развлекается! Он не отдыхает ни
минуты! Ты молод, Сальвадор. Пользуйся своим возрастом". А у.
меня в мыслях было совсем другое, противоположное: "Торопись
стареть! Ты ужасно незрел и суров". Как бы мне избавится от этого
ребяческого недостатка, именуемого юностью?
Прежде чем стать кубистом, надлежало выучиться рисовать. Но
это не могло остудить мой пыл деятельности. Мне хотелось быть
изобретателем и описать великие философские открытия, как
написанная годом позже "Ла Тур де Бабель" ("Вавилонская Башня").
Я уже наплодил полтысячи страниц и это был пока только пролог.
Сексуальное волнение уступало место философскому беспокойству,
больше ничего меня не занимало. "Ла Тур де Бабель" начиналась дл-
инным изложением феномена смерти, на нем, как я думал,
основывались все воображаемые конструкции. Антропоморфист, я не
принимал во внимание себя, как живого человека, а только в виде
ожившей "неодушевленной аморфности" моих причуд. То, что ниже "Ла
Тур де Бабель" было для всех понятной жизнью, для меня было см-
ертью и хаосом, И, наоборот, все, что было выше и казалось другим
мешаниной, беспорядком, было для меня "логосом" и возрождением.
Моя жизнь, в постоянной борьбе за утверждение личности, была в
каждый миг новеллой о победе моего "Я" над смертью, тогда как в
своем окружении я видел только сплошной компромисс с этой см-
ертью. Я же отказывался вступать с ней в сговор.
Смерть моей матери, в том же году, была для меня самой
большой из потерь. Я обожал ее. Для меня она - единственная и
неповторимая. Я знал, что ее золотая, ее святая душа настолько
выше всего самого человечного, и не мог смириться с утратой
существа, на которое бессознательно расчитывал невидимыми
изъянами своей души. Она была так добра, что я думал: "Этого
хватит и на меня". Она любила меня всепоглощающей и возвышенной
любовью - а значит, не могла заблуждаться. Даже мои злые выходки
должны быть чем-то чудесным! Ее смерть показалась мне насмешкой
Судьбы. Невозможно, чтобы такое произошло с ней или со мной.
Мстительное чувство наполняло мое сердце. Стиснув зубы, я
поклялся, что вырву мать у смерти и судьбы, даже если потребуются
для этого снопы света, которые в один прекрасный день дико
засверкают вокруг моего прославленного имени!