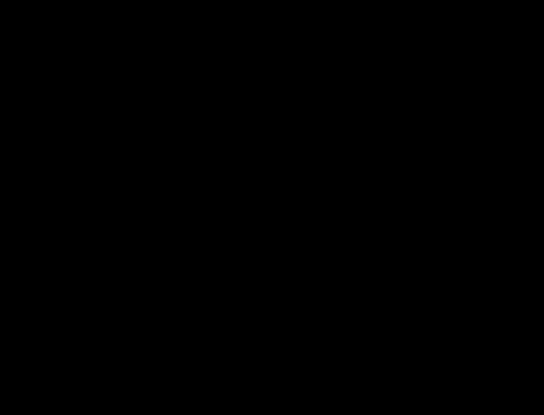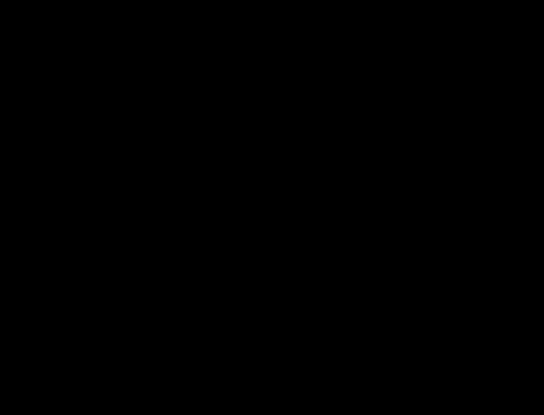Глава девятая
Возвращение в Мадрид - Окончательное
исключение из Академии изящных
искусств - Путешествие в Париж -
Встреча с Гала - Начинается нелегкая
идиллия моей единственной любовной
истории - Меня изгоняют из дому
В один прекрасный день меня освободили из жеронской тюрьмы, и
к ужину я приехал в Фигерас. В тот же вечер я отправился в кино.
По городу уже разнесся слух о моем освобождении и, когда я вошел
в зал, все с чувством зааплодировали. Через несколько дней
родители увезли меня в Кадакес, где продолжилась моя аскетическая
жизнь: я целиком занялся живописью и чтением. Мои занятия не
вытравили память о моей разгульной жизни в Мадриде, я уже знал,
что держу в руках задыхающуюся птицу нового экстатического опыта,
и вернувшись в столицу, смогу продолжить ту же жизнь. Пока мне
предстояло стариться и стариться - работать, бороться, собирать
все интеллектуальные и физические силы, чтобы одолеть направл-
енный против меня крестовый поход.
К концу лета я был похож на скелет, напоминая чудовищ
Иеронима Босха, которых так любил Филипп II, - чудовищ без тела,
с одной рукой, одним глазом и одним мозгом.
В нашей семье было принято после обеда пить кофе и полрюмки
ликеру. Я следовал этой традиции, пока в один прекрасный день по
рассеяности не наполнил рюмку доверху и даже пролил немного лик-
еру на скатерть. Отец в ужасе закричал:
- Что ты делаешь? Ты же знаешь, что это спиртное!
Я отлил половину в бутылку, сославшись на рассеяность. И отец
отправился вздремнуть. А о чем думал я? Будет лучше, если я
сохраню несколько секретов (так же, как о моем "Парсифале")! Это
только пойдет на пользу следующим изданиям моей книги. Вас
устаивает, что я весь перед своими современниками, отдаю вам на
растерзание тело и душу? Тогда пусть устраивает и то, что я
забочусь о своих будущих интересах и уже сейчас думаю о
последующем издании.
Моя ссылка закончилась и я вернулся в Мадрид, где меня с
нетерпением ждала группа. Без меня, утверждали они, все "не слава
Богу". Их воображение изголодалось по моим идеям. Мне устраивали
овации, заказывали особые галстуки, откладывали места в театре,
укладывали мои чемоданы, следили за моим здоровьем, подчинялись
любому моему капризу и как кавалерийский эскадрон напускались на
Мадрид, чтобы любой ценой победить трудности, препятствующие
осуществлению самых невообразимых моих фантазий. Усвоив
прошлогодний опыт, отец выделял мне каждый месяц весьма скромную
сумму, которой хватало на жизнь, но не на разгульную, какую я
собирался вести. Кроме того, он оплачивал мои прошлые долги. Но
это ровным счетом ничего не меняло. В это время вся группа под-
держивала меня своими средствами. Каждый из друзей умея добыть в
нужный момент сумму, в которой мы все нуждались: один отнес в
Монт-де-Пиете кольцо с великолепным бриллиантом, фамильную
ценность, другой заложил крупную недвижимость, которая
принадлежала не ему, третий продал машину, чтобы оправдать наши
баснословные затраты в течение двух-трех дней. Мы пользовались
своей репутацией - сыновья богачей, - чтобы занимать деньги у
самых невероятных людей. Мы сделали список, тянули жребий - и
двое из нас садились в такси, чтобы поехать взять в долг у кого-
то из этих людей дома или в кафе. К концу дня, таким образом,
удавалось собрать значительную сумму, часто превышающую то, на
что мы могли надеятся, и покрывавшую наши траты. Время от времени
мы возвращали долг тем, кто давал больше всего, - чтобы иметь
возможность занять еще раз. Пока нам доверяли. Но когда доверие
исчерпало себя, наши родители получили горы счетов, которые им
предстояло оплачивать. Нашими настоящими жертвами стали самые
скромные из наших кредиторов-приятелей, которые давали нам взаймы
не потому, что считали нас богатыми, а потому, что восхищались
нами, чем мы низко пользовались. Они дорого заплатили за милость,
которую мы оказывали им несколькими минутами беседы. После чего я
цинично говорил им: "Вы обокрали нас! То, что я сказал о реализме
и католичестве, стоит раз в пять дороже". И сам верил в это без
угрызений совести.
Как-то вечером я выслушал признания одного художника,
искренне восхищенного моим творчеством. Он горько сетовал на свое
умственное и материальное нищенство. Может, он надеялся
растрогать меня и затем вернуть долг? Так это или иначе, но в
конце, подавленный моим долгим и равнодушным молчанием, он сказал
со слезами на глазах:
- Но вас это не интересует... Что вы скажете?
- Я? Я стою очень дорого.
Он уткнулся в платок сомнительной чистоты и тихо заплакал. Я
отдал дань своему дендизму, и на миг меня охватил порыв
сострадания. Мне пришлось сделать усилие, чтобы не поддаться ему.
Нежно положив руку ему на плечо, я заметил:
- Отчего бы вам не повеситься... или броситься вниз с какой-
нибудь башни?
За этот год я познал множество элегантных женщин, которыми -
устно и эротично - насытил свои самые яростные желания. Я стал
избегать Лорку и группу, которая все больше становилась "его"
группой. Это .была кульминация его непреодолимого влияния на всех
и, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда я испытал муки
ревности. Иногда мы прогуливались по улице Кастелана, направляясь
в кафе, где были завсегдатаями. Я, зная, что Лорка будет блистать
там подобно бриллианту, внезапно убегал и исчезал дня на три.
Куда я исчезал? - никто никогда не мог выпытать у меня тайну этих
побегов, и я пока не намерен ее раскрывать.
Одна из моих любимых забав заключалась в следующем: я
погружал в виски банковские билеты и ждал, чтобы они размокли. Я
любил это делать перед одной из полусветских дам, причем мы с
утонченной скупостью обсуждали указанные на них суммы. И вот
после года распущенности мне сообщили о моем окончательном
исключении из Академии. Официальный указ об этом, подписанный
королем, появился в "Ла Гасета" 20 октября 1926 года. В своем
"Автопортрете в анекдотах" я изложил инцидент, который определил
мое исключение. Могу только добавить, что я не был ни удивлен, ни
разозлен. Любое жюри решило бы так же.
Я надеялся, что этот окончательный приговор положил конец
моей разгульной жизни. Мне хотелось вернуться в Фигерас и
поработать в течение года, а потом убедить отца, что мне нужно
продолжить образование в Париже. А уж в Париже я бы показал себя!
Последний день в Мадриде. Я исходил сотни улиц, которых
раньше не замечал, - они так глубоко отражают сущность этого
города, в котором народ и аристократия связали свою судьбу в
одной и той же истории. В кристалльном воздухе октября Мадрид
блестел как большая голая кость, слегка окрашенная оттенками
розового цвета. Вечером я уселся в своем любимом уголке
Ректорского клуба и, против обыкновения, выпил всего два виски. Я
так и просидел в углу до зари, а когда вышел, ко мне пристала
какая-то маленькая старушонка в лохмотьях, прося милостыню. Я не
обратил на нее никакого внимания и направился к Испанскому Банку,
где миловидная девушка продавала гардении. Я дал ей сто песет за
весь букет, потом внезапно вернулся к этой малышке и подарил ей
его. Немного отошел и обернулся, чтобы увидеть ее в рассеянном
свете зари, вросшую как соляной столб в край тротуара. Корзина
гардений в ее руках .была как белое пятно.
На другой день я уехал с пустыми чемоданами, просто поленился
уложиться. Мое возвращение в Фигерас потрясло семью. Исключен и
без единой рубашки, чтобы переодеться! Какое ждет меня будущее!
Чтобы утешить их, я повторял:
- Клянусь, я думал, что уложил чемоданы, но должно быть,
перепутал со своим отъездом два года назад.
Отец был подавлен. Исключение разбило его надежды, что мне
удастся сделать официальную карьеру. Он и сестра позировали мне
для рисунка графитом, одного из самых удачных в тот период. В
выражении его лица можно уловить грусть, снедавшую отца в те дни.
Эти рисунки сделаны в строгой классической манере, я все больше
пытался связать свой опыт кубиста с традицией. Несколько моих
картин были выставлены в больших галереях Мадрида и Барселоны.
Далмо, с фигурой одного из персонажей Эль Греко, посвятил мне
персональную выставку в своем магазине, одном из самых анти-
авангардистских. Об этом много толковали. Я оставался равнодушным
к спорам, занятый работой в фигерасской мастерской.
Но слухи о том, что в Испании появился новый художник,
донеслись и до Парижа. Пикассо, проезжая через Барселону, увидел
мою "Девушку со спины" и очень хвалил ее. Об этом я узнал из
письма Поля Розенберга, который просил фотографии моих работ, а я
нарочно их не выслал. Я знал, что в день моего приезда в столицу
всех их заткну за пояс.
Впервые я пробыл в Париже всего неделю с тетушкой и сестрой.
Состоялось три важных визита: в Версаль, в музей Гревен и к Пик-
ассо. Меня представил Пикассо художниккубист Мануэль Анхело Ортис
из Гранады, с которым меня познакомил Лорка. Я приехал к Пикассо
на улицу Ла Боети такой взволнованный и почтительный, как будто
был на приеме у самого папы.
- Я пришел к вам прежде чем посетить Лувр, - сказал я ему.
- И правильно сделали, - ответил он.
Я принес бережно упакованную маленькую картину "Девушка из
Фигераса". Он рассматривал ее в течение четверти часа и не сделал
ни одного комментария. Потом мы поднялись на верхний этаж, и Пик-
ассо показал мне множество картин. Он ходил взад-вперед, таскал
огромные холсты и устанавливал их на мольберте. В загроможденном
хаосе мастерской он находил все, что хотел показать мне, совершая
титанический труд для меня одного. С каждым следующим холстом он
бросал на меня такой мудрый и живой взгляд, что я вздрагивал. Я
уходил, также не сказав ни слова. На пороге мы обменялись
взглядами, означавшими: "Понимаешь?"-"Понимаю!"
Вернувшись, я устроил вторую выставку в галерее Далмо и
послал картины в Зал Иберийских художников Мадрида. Моя
популярность укрепилась.
Как-то пришла телеграмма от Жоана Миро, уже хорошо известного
в 1926 году, он сообщал мне, что приедет в Фигерас в
сопровождении своего торговца Пьера Лойба. Мой отец разволновался
и поверил, что мне необходимо поехать в Париж надолго. Миро
понравились мои последние картины, и он великодушно взял меня под
свое покровительство. Зато Пьер Лойб отнесся к моим произведениям
с искренним скептицизмом. Пока Лойб беседовал с моей сестрой,
Миро отозвал меня в сторонку:
- Эти парижане, - сказал он, - намного глупее, чем мы думаем.
Вы убедитесь в этом, когда приедете. Но это не так легко, как
кажется.
А через неделю я получил письмо от Пьера Лойба, который, вм-
есто того, чтобы предложить блестящий контракт, написал мне
дословно следующее: "Ставьте меня в известность о своей
деятельности, но то, что вы делаете, для начала очень невнятно и
лишено индивидуальности. Работайте, работайте! Развивайте ваши
бесспорные способности. Надеюсь, что придет день, когда я смогу
заняться вами".
Почти одновременно отец получил письмо от Миро, который
объяснял ему, как мне необходимо поехать в Париж, и заканчивал
так: "Я совершенно уверен, что вашего сына ждет блестящее будуще-
е".
Примерно в то же время Луис Бунюэль рассказал мне идею фильм-
а, который он хотел поставить, а его мать финансировать. Его идея
показалась мне сомнительной и примитивно авангардистской: ожившая
от первой до последней страницы газета. Финал: газету подметает с
тротуара гарсон из кафе. Я сказал, что это отдает дешевой сентим-
ентальностью, не стоит ломаного гроша, но у меня есть другой
сюжет, короткий и гениальный, совершенно иной, чем современное
кино. И правда, сценарий у меня был уже написан. Бунюэль был в
восторге и сообщил мне, что приедет в Фигерас. Мы стали работать
вместе, уточняя второстепенные детали фильма, который должен был
называться "Андалузский пес". С нашим произведением Бунюэль уехал
в Париж. Он взялся за постановку и монтаж. Немного позднее, уже
находясь в Париже, я вблизи наблюдал за ходом нашего фильма,
участвуя в постановке и бесконечно беседуя каждый вечер с
Бунюэлем, который автоматически соглашался со всеми моими
предложениями.
Но до этого было еще два месяца. Пока я готовился к отъезду,
я оттачивал свою линию поведения с помощью маленького ядра
барселонских интеллектуалов, группировавшихся вокруг журнала
"Друзья искусства". Я управлял этой группой по своему желанию и
своими трюками будоражил артистическую среду Барселоны так же,
как в Фигерасе. Этот опыт пригодился, прежде чем подняться к
вершинам Парижа, особенно для проверки эффектности моих самых
разных и противоречивых "трюков". Накапливаясь, они невольно уже
входили в Историю. У меня всегда был дар легко подчинять себе
свое окружение и какое наслаждение, когда вокруг тебя люди,
входящие во мрак этого чистилища без малейшего колебания.(Совсем
недавно, в предисловии каталога из моих выставок, подписанном
моим псевдонимом Хасинто Фелипе, я, между прочим, предложил
написать обо мне эссе с примерным названием "Антисюрреалист
Дали". Мне нужны были различные доводы, своего рода "паспорта",
поскольку я сам слишком большой дипломат, чтобы первым произнести
эти слова. Статья не заставила себя ждать (заглавие было
приблизительно такое же, как мое) и появилась в скромном, но
симпатичном журнале, издаваемом молодым поэтом Шарлем Анри
Фором.)
Я приехал в Париж, памятуя о названии какого-то романа,
прочитанного в Испании: "Или Цезарь, или Никто". Я взял такси и
спросил водителя:
- Вы знаете хорошие бордели?
Слегка обидевшись, он все же ответил мне с отеческими ноткам-
и:
- Садитесь, садитесь, сударь, и не беспокойтесь, я их
прекрасно знаю.
Все я не увидел, но побывал во многих, а кое-какие мне
чрезвычайно понравились. В "Шабанэ" мне больше всего понравилась
обстановка. Меня восхитили эротическое ложе, заказанное Франсуа-
Жозефом для удовлетворения многочисленных желаний, лепные ванны в
форме лебедя, лестницы из пемзы, зеркала и позументы Второй
Империи. Если бы я должен был выбрать три места в мире, которые
произвели на меня самое глубокое впечатление, я сказал бы: дом
"Шабанэ" было самое таинственное и самое уродливое "эротическое"
место, Театр "Паладио" в Висене -самое таинственное и самое
эстетически-божественное, а вход в гробницы испанских королей в
Эскуриале - самое таинственное и самое прекрасное из кладбищ в
мире. Поэтому для меня эротизм должен быть всегда некрасивым,
эстетизм - божественным, а смерть - прекрасной. Если внутреннее
убранство борделей очаровало меня, то девушки, наоборот, пок-
азались неподходящими. Их прозаичность и вульгарность были
противоположностью тому, что мне требовалось для моих
рузнузданных фантазий. К этим я не притронусь, пообещал я себе,
увидев их появляющимися одна за другой, заспанных и перепуганных,
как будто их только что подняли с постели. Единственная возмо-
жность была - воспользоваться обстановкой и, может быть, взять
одну из подобных "Креолок" в качестве "помощницы". Но женщин надо
было где-то найти и привезти с собой. В любом случае это
посещение не было бесполезным: всю жизнь я могу питать свои
эротические мечты невероятными аксессуарами, подсмотренными в
борделях.
Затем я направился к Жоану Миро. Мы вместе пообедали. Он
молчал или говорил очень мало(Миро рассказал мне марсельский
анекдот. Путешественник обещает своему другу провезти попугая из
Африки: Вернувшись, он вспоминает, что забыл о попугае, и
покупает сову, которую перекрашивает в зеленый цвет. Спустя
какое-то время друзья встречаются и один спрашивает другого: "Как
поживает попугай, которого я тебе подарил? Уже говорит?" "Нет, -
отвечает друг, -он пока не разговаривает, он размышляет".) и
сообщил мне, что вечером познакомит меня с Маргарит. Я думал, что
речь идет о бельгийском художнике, которого я считал одним из
интереснейших творцов нашего времени. Когда я узнал, что этот
художник был женщиной, а не мужчиной, как я думал, я загорелся и
решил, даже если она будет не очень красивой, я влюблюсь в нее.
- Она очень элегантная? - спросил я у Миро.
- О нет, она очень проста.
Мое беспокойство росло. Проста или нет, надо будет
сопроводить ее в "Шабанэ". Вечером Маргарит пришла в мастерскую
Миро на улице Турлак. Это была высокая и худая девушка с маленьк-
им подвижным лицом, похожим на ожившую голову покойника. Я сразу
отказался от всяких эротических проектов, но был очарован этим
странным существом, которое, в довершение ко всему, говорило не
больше, чем Миро. Мы поужинали в ресторане на площади Пигаль
печенкой и довольно хорошим вином. Это был самый спокойный и
самый интригующий ужин в моей жизни с самыми немыми гостями.
Единственный вопрос, который мне задал Миро: есть ли у меня смок-
инг. Голос его был очень озабоченным. Я попробовал по их
загадочным произведениям воссоздать их мысли и привычки, а также
их интимные и идеологические отношения.
- Надо заказать смокинг. Мы будем выходить в свет.
На другой день я пошел к портному и по мерке заказал себе
смокинг. Я поселился в отеле на улице Вивьен, на которой, как я
узнал, жил поэт Лотреамон. Когда у меня появился смокинг, Миро
повел меня на ужин к герцогине де Дато, вдове министра-
консерватора, убитого на улице Мадрида. Среди множества
приглашенных могу вспомнить только графиню Куевас де Вера,
которая несколькими годами позже станет моим большим другом. Она
была очень хорошо осведомлена обо всех мадридских
интеллектуальных движениях и мы говорили о том, что всем давно и
явно надоело. Миро, закованный в пышную накрахмаленную сорочку,
продолжал молчать, но наблюдал и размышлял, как сова из
марсельского анекдота. После ужина мы отправились в "Бато ивр"
("Пьяную" лодку") выпить бутылку шампанского. Там я обнаружил
уникальное ночное создание, призрачное и фосфоресцирующее,
откликавшееся на имя Якоби. Лотом в течение всей моей жизни я
видел его и сталкивался с ним в полумраке всех ночных кабачков.
Сам не понимаю, почему бледное лицо Якоби стало одним из моих
парижских наваждений. Настоящий светлячок был этот святой Якоб!
Миро небрежно заплатил по счету, чему я позавидовал. Мы
возвращались одни, и он наконец заговорил. После каждой фразы он
энергично сжимал губы:
- Вам придется нелегко, но не отчаивайтесь. Не говорите
слишком много (тут я понял, что его молчаливость - это, может
быть, всего лишь тактика), занимайтесь спортом. У меня есть
учитель и я вечерами занимаюсь боксом. Завтра мы посетим Тристана
Тзару, лидера дадаистов. У него есть влияние. Возможно, он
пригласит нас на какой-нибудь концерт, но придется отказаться. Мы
должны бежать музыки как чумы... Главное в жизни - быть упорным.
Когда мне не удается выразить в картинах то, что я хочу, я до
крови бьюсь головой о стенку...
И он ушел, крикнув: "Салют!" На миг я мысленно увидел эту
окровавленную стену. Кровь была такой же, как моя. В этот период
творчество Миро уже не отвечало тому, о чем я думал и чем
восхищался. Но не имеет значения, кровь там была!
На другой день мы ужинали у Пьера Лойба, было также с
полдюжины новичков. Они работали по контракту и пользовались мал-
енькой удобной известностью, которая только появилась, но уже
проходила. Из этой группы мне запомнился один Павел Челышев,
первый в мире человек, который после ужина повел меня в метро. Я
ни за что на свете не хотел туда входить и Челышев до слез см-
еялся над моим страхом. Когда он сказал, что должен выйти на одну
остановку раньше меня, я схватился за него и умолял не бросать
меня.
- Да это очень просто, - сказал он, - на следующей станции
вылезешь из вагона и увидеть надпись большими буквами: "Выход".
Несколько ступенек вверх -и ты на улице. А проще всего идти за
людьми, которые выйдут на той же станции.
А вдруг никто не выйдет? Наконец, я доехал, поднялся и вышел.
После давящего ужаса метро мне все показалось простым. Челышев
указал мне не только подземный переход, но и точную формулу моего
успеха. Впоследствии я всегда пользовался тайными и скрытыми от
ума метрополитенами. Самые близкие мои друзья не раз спрашивали
меня, где я бываю каждые три-четыре месяца.
- Где Дали? Что он делает? Чем занимается?
Дали путешествовал в своем метро и выходил из него в самый
неожиданный момент: "Я приезжаю, я поднимаюсь, я выхожу!" Поезд
убегал с бешеным грохотом, оставляя меня наверху,
полузадохнувшегося, повторявшего неустанно и монотонно: "Пришел,
увидел, победил... Пришел, увидел, победил... Пришел, увидел,
победил..."
Несмотря на успех моей первой поездки в метро, я остерегался
повторять ужасный опыт и брал такси, который повсюду меня подолгу
ждали и разоряли фантастическими чаевыми.
Я приезжаю! Я приезжаю! Шло время. Бунюэль снимал
"Андалузского пса". У Пьера Бачева была точь-в-точь такая
внешность, о какой я мечтал для моего героя. Он уже кололся и
постоянно нюхал эфир. Как только фильм был завершен, Бачев
покончил с собой. "Андалузский пес" был фильмом подростков и см-
ерти - я собирался вонзить его, как кинжал, в самое сердце элег-
антного, просвещенного и интеллектуального Парижа. Эухенио
Монтес(Поэт и философ Эухенио Монтес входил в нашу мадридскую
группу. Ныне он член Королевской Испанской Академии,
государственный советник и один из создателей Фаланги.) по этому
поводу написал в 1929 году: "Бунюэль и Дали решительно нарушили
грань того, что французы называют хорошим вкусом. Фонограф
синхронно с фильмом играл из "Тристана" Но он скорей должен был
играть "Хоту Поликаза"(Народная песня старинного Арагонского
королевства, образец расистского насилия.), не желающую
становиться французской, желающую оставаться арагонской,
испанской, иберийской, с берегов Эбро, этого иберийского Нила
(Арагон, ты - Египет, ты воздвигаешь пирамиды испанских плясок
смерти). Варварски дикая красота луны, почва пустыни или "кровь
слаще меда", наконец, вновь появилась на свет. Нет, не ищите там
розы Франции. Испания - не сад, испанец - не садовник. Испания -
планета, где вместо роз - смердящие ослы. Ни рассудочности, ни
декораций. Испания - это Эскуриал, а не изысканность, ибо она не
выносит фальши. Испания не может ни рисовать черепах, ни обряжать
ослов в хрустальные шкуры. В Испании Иисус Христос истекает
кровью на крестах, а когда его носят по улицам в процессиях, он
движется меж двумя живыми изгородями гражданских стражей".
Монтес заключает: "Это дата в истории кино, дата, отмеченная
кровью, как этого желал Ницше, как всегда это делалось в Испани-
и".
Фильм добился того, чего я хотел. В один вечер он разрушил
все десять послевоенных лет лжеинтеллектуального авангардизма.
Неземная вещь, которую называли абстрактным искусством, пала к
нашим ногам, смертельно раненная, чтобы уже не подняться, - после
первых кадров нашего фильма: глаз девушки, разрезаемый бритвой. В
Европе больше не осталось места для маниакальных прямоугольников
Мондриана.
Студийные режиссеры - это, как правило, люди, которые уже
ничему не удивляются. Наш признался, что думал, будто ему снится
сон, когда мы представили ему список всего необходимого: голую
женщину с морским ежом под каждой подмышкой, маску безо рта для
Бачева и другую маску, где вместо рта росли волосы, как куст
подмышкой, четырех смердящих ослов, размещенных на четырех
роялях, настоящую оторванную руку, коровий глаз и три муравейник-
а.
Должен сказать, что постановка доставила немало хлопот,
особенно когда мы снимали сцену со смердящими ослами. Я добился
эффекта разложения с помощью трех бидонов липкого клея, который
вылил на них. Я выдавил им глаза из орбит и раскромсал раны
ножницами. Еще я подрезал их отвислые губы, чтобы лучше были
видны зубы. Для пущего впечатления пришлось увеличить челюсть.
Походило на то, как если бы ослы изрыгали собственную смерть на
другие челюсти - клавиши роялей, черные, чернее, чем полсотни
гробов.
"Андалузский пес" заставил меня отступить от светской
карьеры, к которой приобщал меня Жоан Миро. Я сказал ему:
- Я предпочитаю начинать смердящими ослами. Это не терпит
отлагательств. Остальное само приложится.
И я не ошибся. Как-то вечером я встретил Робера Десноса в
баре Французской Академии. Он повел меня к себе. Как обычно, у
меня с собой была картина и я показал ее. Деснос пожелал ее
купить, но у него не было при себе денег. Безусловно, он сразу
понял оригинальность этого полотна, названного "Первый весенний
день". Наслаждения распутства были изображены на нем удивительно
предметно.
- Это не похоже ни на что, что делают в Париже, - сказал он
мне.
После чего разразился нескончаемой горячей тирадой о
Робеспьере в напряженном и бесконечно лиричном духе, который
наводит неодолимый сон. Как всякий раз, когда я слышал длинные
рассуждения о Французской революции, на следующее же утро я
заболел сильнейшей ангиной. Подавленный, я должен был лежать в
постели, один в своем гостиничном номере - я, которого при
малейшей температуре окружали тысячей забот и всяческим вним-
анием. Отель сразу показался мне жалким, а чистота его -
сомнительной. Накануне выздоровления я обнаружил на потолке трех
насекомых. Тараканы или клопы? Я швырнул в них подушкой, но был
так слаб, что не попал. И снова тяжело упал на кровать. Утом-
ившись, я забылся в лихорадочном сне. Проснулся - посмотрел
вверх. Осталось два насекомых. Одно, наверно, упало мне на
постель. С отвращением я принялся перетряхивать простыни и
покрывала, не находя его. И вдруг страшно закричал. Проведя рукой
по спине, я почувствовал - там, куда я могу дотянуться лишь
кончиками пальцев, к моей коже присосалось насекомое. Его
невозможно было оторвать, сколько я ни тянул и ни пытался
схватить его, оно все сильнее вгрызалось мне в кожу. Соскочив с
кровати, я встал перед зеркалом. Изогнувшись, я разглядел
внедрившееся в мою кожу насекомое - оно было круглое и досыта
напившееся кровью. Наверно, это был клещ. Так и не сумев вытащить
его, я злобно раздавил его между пальцами. .Но клещ так глубоко
проник мне в кожу, что, казалось, он стал с моим телом единым
целым. Неужели мне никогда не удастся выковырять его и он станет
неким зародышем моего "сиамского брата"? Страх и отвращение были
так велики во мне, что я принял дикое решение: лезвием бритвы
стал отрезать клеща от кожи. Я резал и резал вдоль и поперек,
пока не рассек его на части и по спине не хлынул поток крови. У
меня началось такое кровотечение, что я почти терял сознание, еле
дополз до двери и позвал на помощь горничную. По паркету стелился
широкий красный след. Я пытался из простыней сделать перевязку,
чтобы остановить поток крови. На полотне просочилось большое
пятно, и я вернулся в ванную, но вода не уменьшила кровотечение.
Горничная все не шла. Мой номер стал похож на мясницкую: лужи
крови на постели, на ковре, на стенах и на зеркале шкафа. Наконец
на пороге появилась горничная, вскрикнула от ужаса и убежала. В
коридоре мне сказали, что сюда движется целая процессия, и
несколько человек одновременно во главе с директором спросили
меня, что случилось.
- Это...это...
Но я не знал, как будет по-французски "клещ". Директор
подбадривал меня отеческим взглядом. Он был как будто таким
человечным, все понимающим...
- Это меня укусил клоп!
Наконец, пришел врач. Но я уже и сам понял, что не было в
помине никакого клопа или клеща, вцепившегося в спину, а была
только моя родинка, знакомая мне наизусть. Врач заявил: крайне
опасно самому делать себе такие операции. Тщетно я твердил, что
принял родинку за паразита, он мне не верил:
- Я понимаю, когда хотят удалить родимое пятно, если оно на
лице, то это неприятно. Но чем оно мешало вам на спине?
Я был ослаблен и расстроен, мне казалось, что былое здоровье
ко мне не вернется. Видел все в черном свете. Еще не представл-
енный публике "Андалузский пес" показался мне отвратительным.
Если бы я мог, я бы уничтожил его. Ну и что, что исчезли бы
несколько смердящих ослов, жалкие актеришки и сценарий, отдающий
поэтическим бессилием. А что я сделал, кроме фильма? Мои визиты
проходили без всякого толку. Застенчивость мешала мне блистать, я
был недоволен самим собой. Камилл Гойман, торговец картинами,
обещал мне контракт, но его подпись что-то запаздывала.
Мне не удалось отыскать элегантную женщину, которая отвечала
бы моим эротическим фантазиям. Я, как бешеная собака, гонялся по
улицам, но ничего не находил. Когда подворачивался случай,
робость мешала мне подойти. Сколько дней подряд я слонялся по
бульварам, присаживался на террасах кафе, ища случая перем-
игнуться. Мне казалось естественным, чтобы все женщины,
прогуливающиеся по улицам, разделяли мои желания. Но нет!
Предельно разочарованный, я преследовал одну дурнушку, не
оставлял ее ни на минуту, не сводя с нее пылкого взора. Она села
в автобус - я уселся напротив и прикоснулся к ее колену. Она
поднялась и пересела. Мне надо было снова выйти и влиться в толпу
женщин (я видел только их), в поток враждебного бульвара, который
не замечал меня. Ну что? Где тот пояс, за который ты хотел
заткнуть весь Париж? Что за скотину ты изображаешь? Даже уродин и
то нет!
Вернувшись в свой прозаический номер в отеле с гудящими
ногами, я ощутил горечь на сердце. Мое воображение занимали все
недостижимые женщины, которых я пожирал глазами. Перед зеркальным
шкафом я занялся "этим", как жертвоприношением себя, стараясь
продлить это как можно дольше и перебирая в памяти все образы,
увиденные в течение дня, чтобы они явились мне и явили то, чего я
желал от каждой из них. Смертельно изнуряя себя четверть часа
раздраженной рукой, я наконец с животной силой вызвал последнее
наслаждение, смешанное с горькими слезами. Сколько было женских
ляжек в Париже! И ни одну я не залучил в свою кровать, куда свал-
ился в одиночестве, без мыслей и чувств. Перед тем, как уснуть, я
всегда произносил краткую католическую молитву.
Я часто ходил в Люксембургский сад. Усевшись на скамью, я
плакал. Как-то вечером мой будущий торговец картинами Гойманс
повел меня на бал в сад Табарен. Он показал мне какого-то
человека, который вошел в сопровождении женщины в платье с
черными блестками.
- Это поэт-сюрреалист Поль Элюар. Он страшно знаменит в
Париже и, кроме всего прочего, покупает картины. Его жена сейчас
в Швейцарии. А это его приятельница.
Мы двинулись им навстречу и познакомились за несколькими
бутылками шампанского. Элюар показался мне легендарным героем -
он спокойно попивал из бокала и разглядывал прекрасных женщин,
окружавших нас. На прощанье он пообещал приехать в Кадакес
следующим летом.
На другой день вечером на вокзале Орсей я сел в поезд, идущий
в Испанию. Похоже, все небесные ангелы назначили мне свидание в
буфете, где я ужинал в одиночестве каким-то блюдом с вермишелью.
Впервые после последней ангины я проголодался.
- Не болей больше, Сальвадор, тебе ведь уже не нужно затыкать
Париж за пояс.
Опыт учит, что если хочешь что-то заткнуть за пояс и не
получается, то заболеваешь. Кто владеет ситуацией, никогда не
болеет, даже если его тело намного слабее и уязвимей. И вот я
нацепил на вешалку вокзала Орсей мою болезнь, как если бы это
было старое летнее пальто, от которого следовало торжественно
избавиться. Если понадобится к следующей зиме, я куплю новое. До
свидания. На другое утро я проснулся в Каталонии. Мы проезжали
милые мне поля Ампурдана и миновали "Мулен де ла Тур". Паровоз
просвистел, въезжая в Фигерас.
Как вслед за бурей появляется небо, так после моей болезни в
Париже я вступил в период здоровья, самого "прозрачного", ибо я
как бы "видел" насквозь свое тело, точное функционирование всех
маленьких сцепленных друг с другом механизмов моей вновь цветущей
анатомии. Я нутром чувствовал: это выздоровление предзнаменовало
любовь. Мне предстоит нынешним летом познать любовь. Казалось, я
ощущаю уже недостающую женскую фигуру, которая издалека шла ко
мне. Это могла быть только Галючка, возродившаяся в женской
плоти.
Я приехал в Кадакес и меня окружили воспоминания детства. Все
происшедшее в юности и моих двух завоеваниях Парижа вытеснили
образы, которые я не всегда мог определить во времени, но которые
я точно видел в детстве. Я воочию видел прелестных молоденьких
ланей. Они были желтые, с темно-коричневыми рогами. Их очертания
были такими точными, что мне было бы проще простого рисовать их.
Другие образы были сложнее: голова зайца с глазом попугая в
многократном преломлении или рыба с кузнечиком во рту.
Сосредоточась, я видел вокруг себя множество разноцветных
зонтиков, которые на весь день оставляли после себя удивительное
ощущение легкости.
Через несколько дней, насладившись этими образами, я решил
сделать картину - изобразить их по времени появления и без прим-
еси собственного вкуса. Получилось бы одно из самых правдоподо-
бных произведений, сюрреализм которого говорил бы сам за себя.
Оно было бы априори необычным и очень далеким от дадаистских
аппликаций своей поэтичной композицией, апостериори - полной
противоположностью метафизической живописи Кирико. Мы были бы
вынуждены признать его исконно биологический характер, что было
противоположно и поэтической размягченности абстракциорнистов. Я
был один-единственный художник-сюрреалист, по крайней мере,
такой, каким его желал видеть Андре Бретон, лидер и папа
движения. Тем не менее, когда Бретон увидел мою картину, ему пок-
азалось сомнительными некоторые ее грубые элементы: на первом
плане со спины изображалась фигура в исподнем, измаранном
дерьмом. Казалось бы, такой элемент вполне укладывается во всю
психопатическую иконографию. Но Бретону требовались мои
оправдания: это, дескать, только видимость дерьма. Подобная
ограниченность, идеалистская по своей сущности, была, на мой
взгляд, фундаментальным "пороком мышления" начального периода
сюрреализма. Устанавливались некие каноны там, где в них не было
нужды. Что дерьмо, что осколок каменного кристалла, оба возникшие
из подсознания, были равноценны. И при этом сюрреалисты боролись
против канонов традиции!
На заре я проснулся и, не умывшись, сел перед мольбертом,
стоявшим в моей комнате рядом с кроватью. Первый образ сутра был
- мое полотно, последнее, что я видел перед сном. Я пытался
уснуть, фиксируя его глазами, чтобы сохранить его очертания во
время сна, и несколько раз посреди ночи вставал, чтобы на миг
взглянуть на него в лунном свете. Или, проснувшись, включал свет,
чтобы видеть изображение, которое меня не оставляло. Весь день,
сидя, как медиум, перед мольбертом, я фиксировал полотно и видел,
как появляются фрагменты моего собственного воображения. Когда
изображение точно закреплялось в картине, я тут же рисовал его.
Но иногда надо было ждать часами, бездельничая с неподвижной
кистью в руке, прежде чем что-то появлялось. Бывали у меня и
ложные изображения, я задыхался и недоумевал, потом они
рассеивались, и я говорил себе: "Ну что, теперь искупаемся?" Я
взбирался по скалам при легких дуновениях ветерка, загорал, потом
разом нырял в глубину воды, в более бездонные глубины, чем те,
что я смутно различал с высоты башни в "Мулен де ла Тур". Мое
обнаженное тело обнимало и ласкало душу, приговаривая: "Подожди,
она придет!" Но моя душа не любила этих объятий и желала
избавиться от слишком бурных порывов молодости. "Не торопись так,
- отвечала она мне, - ты ведь знаешь, что она придет к тебе!"
Затем моя душа, которая никогда не купалась, садилась в тени и
говорила мне, точьв-точь как кормилица, когда я был ребенком:
"Иди, иди поиграй. Устанешь - вернись забери меня и мы пойдем до-
мой".
После обеда я снова был перед полотном и рисовал дотемна.
Полная луна вызывала у меня в душе прилив материнских чувств и
освещала своим слабым светом призрачное в летнем платье тело моей
Галючки, которая, как и я, выросла со времен моих ложных воспом-
инаний. Я желал ее всею своею душою. Она приближалась, но чем
ближе подходила, тем сильнее я хотел растянуть это страстное
ожидание. Я говорил себе: "Лови, лови этот удивительный случай.
Ее еще нет здесь". И я выжимал из своего тела одинокое
наслаждение, слаще меда, кусая, подушку так, что трещала ткань.
Ах, ох, кричала моя душа, и я засыпал, не осмеливаясь
прикоснуться к Галючке, растянувшейся сбоку, немой и неуловимой.
Она просыпалась раньше меня, и когда на рассвете я открывал
глаза, уже стояла перед картиной, разглядывая ее. Прошу простить
меня за неточность, когда я уподобляю душу некоей аллегории. Но
она была вольной аллегорией, которая занимала определенное место
в моих тогдашних фантазиях. Я говорю об этом потому, что ниже
расскажу о единственной настоящей галлюцинации, которую испытал в
жизни. Изложу ее максимально точно, чтобы не спутать с другими
моими видениями, которые никогда не достигали подобной зрительной
силы. -
Однажды в воскресенье я, как обычно в этот день, встал очень
поздно, примерно в половине первого дня. Меня разбудила
неотложная биологическая потребность, я вышел из комнаты и
направился в туалет на первом этаже. На лестничной площадке я
встретил отца, с которым говорил минут пятнадцать. Стало быть,
это исключает, что мой путь в туалет был игрой воображения. Я
совсем проснулся. А когда поднялся к себе и открыл дверь, увидел
сидящую у окна довольно крупную женщину в ночной сорочке. Хотя
она была совершенно реальна физически, я сразу же понял, что у
меня галлюцинация, но, вопреки ожиданию, нисколько не удивился. Я
снова лег в постель, чтобы изучить этот удивительный феномен с
наибольшими удобствами. Я устроился так, чтобы хорошо его видеть,
но стоило мне чуть повернуть голову, чтобы подложить под спину
подушку, как я не увидел больше ничего. Она не растаяла медленно,
она внезапно исчезла.
Эта галлюцинация заставила меня мечтать о других. Но больше
никогда такое не повторилось. Однако теперь всякий раз, открывая
дверь, я чувствовал возможность увидеть чтото ненормальное. Как
бы там ни было, в тот период я и в самом деле не был "норм-
альным". Впрочем, как определить для живого существа лимиты
"нормальности" и "ненормальности"? Я говорю, что в 1929 году в
Кадакесе я не был нормальным - и это означает, что это верно по
отношению к сегодняшнему дню, когда я пишу книгу. Несомненно, я
сделал огромные успехи, приспосабливаясь к действительности.
Когда у меня появилась первая галлюцинация, я получал удо-
вольствие от своей необычной психики и стимулировал свои
"необычности". Каждое утро я немного поливал растение моего
безумия, до тех пор, пока оно не стало цвести и давать плоды,
которые чуть не пожрали мою жизнь, и так было до тех пор, пока я
не понял, что пора уничтожить это растение, растоптать его
каблуками, зарыть в землю и начать снова завоевывать свое "жизн-
енное пространство". Девиз "безумие для безумия" я должен был за
год сменить на "Обуздание безумия", который носил уже католическ-
ий характер. Безумие открыло мне некоторые из своих секретов,
которые я тщательно оберегал даже тогда, когда пристрастился к
разрушительному его обузданию и пытался увлечь за собой всю
группу сюрреалистов (я не преуспел в этом. Политические интересы
разрушали сюрреалистическую деятельность подобно раковой опухоли.
Мои самые прозорливые лозунги принимались, но этого было мало,
чтобы оживить движение. И я понял, что должен отныне или писать
картины или умереть без чьей-либо помощи.).
Итак, в 1929 году я был человек в Кадакесе, выбеленом
известкой селении моего детства и отрочества. Я был человек, и
каждый день делал себя немного безумнее. Тогда у меня начались
приступы смеха. Они были такой силы, что мне приходилось ложиться
на кровать, чтобы отойти. Из-за чего я смеялся? Почти без
причины. К примеру, я представлял себе трех маленьких
священников, гуськом переходящих мост вслед за осликом из
японского зоопарка, наподобие того, что в Царском Селе. Когда
последний и самый крошечный из священников уже сходил с моста, я
давал ему. сильный пинок ногой. Он останавливался, как
перепуганная мышка, и метался туда-сюда, стараясь убежать. Страх,
написанный на лице священника, когда я давал ему пинка, казался
мне прекомичным. Стоило мне представить эту сцену-и я хохотал до
упаду, где бы и в каких бы обстоятельствах не находился.
Другой пример среди прочих: я представлял своего собеседника
или кого-либо из знакомых с маленькой совой, сидящей у него на
голове. А у совы на голове - какашка. Сова была скульптурной, а
какашка, конечно, моей. Эффект совы с какашкой не всегда был
одним и тем же у разных лиц, которых я представлял с подобным
балансом. У некоторых все выглядело так, что я доходил до
приступа смеха, у других ничего не получалось. Не раз мне
приходилось заменять сову на голове другими особями, прежде чем
найти ту птицу, которая отвечает моему желанию. Но когда это
удавалось, ничто не могло сравниться с моей радостью, если я
видел лицо ничего не подозревавшего человека, а на голову ему
водружал сову, которая выкатывала на меня глаза. Взрывы смеха у
меня были так сильны, что вызывали судороги. Мой хохот был слышен
в саду, и отец на миг переставал поливать костлявый шиповник,
задушенный жарой.
- Что с ним? Что он все смеется и смеется? - удивлялся и
беспокоился он и снова брался за работу.
В это время я получил телеграмму от моего торговца картинами
Камилла Гойманса, с которым у меня было подписано соглашение: за
3000 франков он имел исключительное право на всю мою летнюю
продукцию. В начале учебного года он выставил бы мои картины в
своей галерее и получил бы свои проценты. Во всяком случае, за
3000 франковой стал бы владельцем трех моих картин по своему
выбору. Мои отец считал эти условия подходящими. Что касается
меня, то я ничего не понимал в деньгах и твердо верил, что монета
в 500 франков - это больше, чем билет в 1000 франков. Читателям
это покажется маловероятным, но их сомнения рассеяли бы
свидетельства друзей, которые знали меня в то время. Итак, Гойм-
анс дал телеграмму и приехал. Он был захвачен моей "Мрачной
игрой" (я не преуспел в этом. Политические интересы разрушали
сюрреалистическую деятельность подобно раковой опухоли. Мои самые
прозорливые лозунги принимались, но этого было мало, чтобы
оживить движение. И я понял, что должен отныне или писать картины
или умереть без чьей-либо помощи), тогда еще не завершенной.
Через несколько дней приехали также Рене Магритт с женой, затем
Луис Бунюэль. Поль Элюар известил о своем приезде письмом.
Я впервые был окружен сюрреалистами, которые съехались,
привлеченные странной, только что открытой им личностью. И в
самом деле, они оказались здесь только ради меня, ведь Кадакес не
предлагал ни одного из удобств дачной жизни, а я жил здесь у
отца.
Мои взрывы смеха всех удивляли. Удивление, которое я видел на
лицах, лишь усиливало приступы. По вечерам, прохлаждаясь на
пляже, они вели серьезнейшие беседы; я проявлял желание вставить
слово, но стоило мне открыть рот - и я заходился в бесконечном
хохоте, доводившем меня до слез. Потом я внезапно умолкал, чтобы
не испытывать больше искушения смеяться. Мои друзья сюрреалисты
смиренно воспринимали эти взрывы смеха, считая их проявлениями
странностей, присущих гению.
- Не стоит, - говорили они, - спрашивать мнение Дали,
поскольку он, конечно, начнет смеяться и это растянется на добрую
четверть часа!
Изо дня в день мои приступы смеха все учащались и наконец я
понял по некоторым взглядам и перешептываниям, что мое состояние
стало их беспокоить. Это показалось мне чрезвычайно уморительным
- я-то ведь знал причину своего смеха. И я объяснил им:
- Видели бы вы то, что мне представляется, хохотали бы больше
меня!
Такое название дал картине Поль Элюар с моего согласия.
Растерянные и заинтригованные, они захотели побольше узнать
об этом.
- Представьте, к примеру, довольно респектабельное лицо...
- Да-да, продолжай...
- Теперь представьте маленькую сову со стилизованным телом и
головой, как у настоящей совы. Понимаете?
Изо всех сил они пытались представить то, что я описывал.
-Да-да, продолжай...
- Теперь представьте на голове совы какашку, любую, да хоть
мою!
Все ждали продолжения, никто не смеялся.
- Вот в этом-то и соль!
На сей раз они как-то неуверенно засмеялись. Я прекрасно
понял, что сделано это из вежливости.
- Нет-нет, - сказал я,-вы не видите это так, как я, иначе бы
лопнули со смеху.
Однажды утром, когда я помирал от смеха, перед домом
остановилась машина. Из нее вышел Поль Элюар со своей женой. Они
устали от длительного путешествия - только что побывали у Рене
Кревеля в Швейцарии. Они тут же отбыли в отель "Мирамар", чтобы
как следует отдохнуть, и договорились встретиться с нами в пять
часов.
Лицо Гала Элюар было, на мой взгляд, очень интеллигентным, но
выражало усталость и досаду - ну и дыра этот Кадакес!
В пять мы все поехали к ним и уселись на террасе в тени
плантанов. Я выпил перно и не мог удержаться от приступа смеха.
Элюару объяснили, в чем дело, и, похоже, он очень
заинтересовался. Очевидно, все еле удерживались, чтобы не сказать
ему:
- Погодите, это пока ерунда. То ли еще будет!
Вечером на прогулке я обсуждал множество серьезных вопросов с
женой Элюара, Гала. Ее удивила стройность моих рассуждений, и тут
же, под плантаном, она призналась, что приняла меня за противного
и невыносимого типа из-за моих лакированных волос, которые
придавали мне вид профессионального танцора аргентинского танго.
В самом деле, от мадридского периода у меня осталось пристрастие
к фатовству. У себя в комнате я всегда ходил нагишом, но если
надо было отправиться в селение, я целый час приводил себя в
порядок, нафабривал волосы и брился с маникальной тщательностью.
Я носил безукоризненно белые брюки, фантастические сандалеты,
шелковые рубашки, колье из фальшивого жемчуга и браслет на
запястье. По вечерам я надевал расписанные мною шелковые рубашки
с очень открытым воротом и пышными рукавами, что делало меня
похожим на женщину.
После прогулки я побеседовал с Элюаром и тут же понял, что он
поэт уровня Лорки, из великих и настоящих. Я терпеливо ждал,
чтобы он попросил показать пейзаж Кадакеса, но он еще "не увидел"
его. Затем я попытался возложить ему на голову маленькую сову, но
не смог. Потом я попробовал сделать то же с Лоркой, но ничего не
получилось. Я попрактиковался на других поэтах, но ничуть не
развеселился. Даже те, кто прежде вызывал у меня смех, ничем не
могли мне помочь. Наконец я вообразил сову вниз головой,
приклеившуюся какашкой к тротуару. Это вызвало у меня такой
хохот, что я не мог идти дальше и повалился наземь.
Мы проводили Элюаров в отель "Мирамар", назначив им свидание
на завтра в одиннадцать часов на пляже, чтобы пойти купаться.
Наутро я проснулся задолго до рассвета, дыхание мое
прерывалось от ужасного страха. Как? Мои друзья и особенно Элюары
будут на пляже ровно в одинадцать, а мне из вежливости надо быть
точным и прервать работу на целый час раньше обычного! Эта мысль
ужасала меня и заранее отравляла все утро. Мне хотелось
остановить солнце, погрузить его в воду, откуда оно появлялось,
иначе я предчувствовал в себе внутреннюю борьбу.
Какая борьба, зачем? Утро сияло легким покоем, что обычно
предшествует глобальным событиям. Дом жил обычной жизнью,
приходила прислуга и отпирала кухню, ударяли по воде весла рыбака
Энрике, под моими окнами шли стада коз, ведомые козлом. А тем
временем... Что должно случиться? Я не мог оставаться перед своим
мольбертом. Я примерил серьги сестры - ну уж нет, это украшение
мало подходит для купания. И все же мне хотелось пококетничать с
Элюаром. Почему бы не появиться голым и растрепанным? Ведь нак-
ануне они видели меня со слипшейся прической и таким же увидят
вечером. Когда они придут, думал я, спущусь с палитрой в руке, с
колье на шее и растрепанным. В сочетании с моей загорелой, как у
араба, кожей, это произведет интересный эффект. Оставив наконец
мольберт, я стал криво обрезать свою самую красивую рубашку,
чтобы она была не ниже пупа. Надев ее, я рванул ткань и проделал
большую дыру на плече, другую на груди посредине, обнажив черные
волосы, третью сбоку, над коричневым соском. А ворот? Оставить
его открытым или застегнуть? Ни то, ни другое. Вооружившись
ножницами, я отрезал его совсем. Оставалось решить последнюю
задачу: плавки. Они казались мне слишком спортивными и не
соответствовали наряду светского экзотического художника, который
я смастерил. Я вывернул их на левую сторону, выставив на всеобщее
обозрение грязную хлопковую изнанку в ржавых пятнах от ок-
ислившегося пояса. Чем еще развить тему сильно ограниченного
купального костюма? Это было только начало: я выбрил подмышки,
но, поскольку не добился идеального голубого цвета, который видел
у элегантных мадридских дам, взял немного бельевой синьки, смешал
ее с пудрой и покрасил подмышки. Получилось очень красиво, но
лишь до тех пор, пока от пота мой макияж не потек голубыми
ручьями. Протерев подмышки, чтобы смыть подтеки, я увидел, что
кожа покраснела. Это было не хуже голубизны, и я понял, что мне
нужен красный цвет. Бреясь минуту назад, я слегка порезался и
справа появилось пятнышко засохшей крови. Я еще раз выбрился
"Жиллетом" и вскоре мои подмышки были в крови, которую я не без
кокетства размазал по телу. Теперь надо подождать, чтобы кровь
подсохла. На коленях получилось так красиво, что я не удержался и
еще немного изрезал там кожу. Какая работа! Но и это еще не все:
за ухо я сунул цветок герани. Теперь нужны духи. Одеколон
неприятен. Что же? Сидя на табуретке, Сальвадор Дали глубоко
задумался. Ах! Если бы он смог надушиться запахом козла, который
каждое утро проходит под его окнами! Внимание: Дали внезапно
вскочил, осененный гениальной идеей...
Я нашел духи! Я включил паяльник, которым пользовался для
гравюр, и сварил в воде рыбий клей. Сбегал на зады дома, где, я
знал, стоят мешки козлиного помета, аромат которого до сих пор
нравился мне лишь наполовину, взял горсть помета и бросил в
кипящую воду. Потом размешал пинцетом. Теперь сперва шибануло
рыбой, затем козой. Но немного терпения - микстура достигнет
совершенства, когда я добавлю несколько капель лавандового масла.
О чудо! Вот это точь-в-точь запах козла. Охладив его, я получил
массу, которой намазал тело. Теперь я готов.
Готов к чему? Я подошел к окну, которое выходило на пляж. Она
была уже там. Кто Она? Не перебивайте меня. Хватит с вас того,
что я говорю: Она была уже там. Гала, жена Элюара. Это была она!
Галючка Редивива! Я узнал ее по обнаженной спине. Тело у нее было
нежное, как у ребенка. Линия плеч - почти совершенной округлости,
а мышцы талии, внешне хрупкой, были атлетически напряжены, как у
подростка. Зато изгиб поясницы был поистине женственным. Грацио-
зное сочетание стройного, энергичного торса, осиной талии и
нежных бедер делало ее еще более желанной.
Как я мог провести с ней полдня и не узнать ее, ни о чем не
заподозрить? Это для нее я сфабриковал безумный утренний наряд,
для нее измазался козлиным дерьмом и выбрил подмышки! И вот,
увидев ее на пляже, я не осмеливаюсь появиться в таком виде.
Теперь, стоя перед зеркалом, я нашел его жалким.
"Ты похож на настоящего дикаря, Сальвадор, и ненавидишь все
это". Я разделся и стал изо всех сил отмываться, чтобы избавиться
от удушающей вони, исходившей от меня. Осталось лишь жемчужное
колье и наполовину сломанный цветок герани.
На пляже я подошел к своим друзьям, но когда собирался
поздороваться с Гала, меня сотряс взрыв хохота и я не мог сказать
ни слова. Приступы повторялись всякий раз, как она заговаривала
со мной и я собирался ей отвечать. Смирившись, друзья оценили это
так:
- Ну вот. Теперь этого хватит на целый день.
И они сидели, гневно швыряя в воду камешки. Особенно
разочарован был Бунюэль, ведь он приехал в Кадакес поработать со
мной. Но я только и пытался совладать со своим безумием, а все
мои планы, мысли и внимание были заняты Гала. Не в силах говорить
с ней, я окружил ее тысячей мелких забот: принес ей подушки,
подавал стакан воды, поворачивал ее так, чтобы она лучше видела
пейзаж. Если бы я мог, я бы тысячу раз снимал и надевал ей туфли.
Когда во время прогулки мне удавалось хотя бы на секунду
прикоснуться к ее руке, все мои нервы трепетали и я слышал, как
вокруг меня падают дождем зеленые плоды, как будто я не касался
руки Гала, а до срока тряс неокрепшее пока деревце моего желания.
Гала, которая с уникальнейшем в мире интуицией видела мою
малейшую реакцию, не замечала, что я без памяти в нее влюблен. Но
я хорошо чувствовал, как растет ее любопытство. Она распознала во
мне наполовину сумасшедшего гения, способного на большую отвагу.
И поскольку она творила свой миф, она начала думать, что я
единственный, кто способен ей помочь.
Моих друзей занимала моя картина "Мрачная игра". Замаранные
дерьмом трусы были изображены с такой милой естественностью, что
они задавали себе вопрос, не являюсь ли я копрофагом (копрофаги -
животные, питающиеся экскрементами (примеч. пер.). Они
тревожились, не поразила ли меня эта неприятная болезнь. Гала
решила покончить с их сомнениями. Она сообщила мне, что хочет
поговорить со мной на очень важную тему и попросила меня уделить
ей время для беседы. Я успел ответить ей без смеха, что это не
зависит от меня. Даже если я взорвусь хохотом, это не помешает
мне внимательно выслушать ее и серьезно ответить ей. Я опасался,
что внимание Гала спровоцирует у меня новый безумный смех, от
которого я удерживался лишь силой воли. Мы договорились на
следующий вечер. Я должен был встретить ее у отеля и повести на
прогулку среди скал. Поцеловав ей руку, я ушел.
Едва она повернулась ко мне спиной, я так расхохотался, что
был вынужден присесть на чей-то порог, чтобы прошел приступ. По
дороге я встретил Камилла Гойманса с женой - они заметили меня и
остановились поговорить.
- Будьте внимательны, - сказал он мне. - Вы с некоторых пор
очень нервозны. Слишком много работаете.
На другой день я встретился с Гала и мы отправились гулять в
планетарно меланхоличные скалы Креус. Я ждал, когда Гала
заговорит на важную тему, а она не знала, с чего начать. Мне
нужно было протянуть ей руку помощи хотя бы намеком. Она приняла
это с признательностью, хотя и дала мне понять, что не нуждается
в помощи. Вот приблизительно какой была наша беседа.
- Кстати, о вашей картине "Мрачная игра"...
Она на миг умолкла, давая мне время догадаться о дальнейшем.
Я не ответил, ожидая, что последует за первыми словами.
- Это очень значительное произведение, - продолжала она, -
вот почему все ваши друзья, Поль и я хотели бы понять, чем
вызвано, что некоторым элементам вы, похоже, уделяете особое
внимание. Если у них есть соответствие в вашей жизни, то в таком
случае я в большом разладе с вами, потому что мне - моей жизни -
это кажется ужасным. Но это ваша личная жизнь, и мне нельзя вм-
ешиваться в нее. Однако дело вот в чем: если вы пользуйтесь
своими картинами, чтобы доказать пользу какого-либо порока,
который вы считаете гениальным, это, как нам кажется, значительно
ослабляет ваши произведения, сужает их, низводит их до уровня
психопатического документа.
Меня так и подмывало солгать в ответ. Признайся я в том, что
являюсь копрофагом, как подозревали мои друзьясюрреалисты, я стал
бы в их глазах еще интересней и феноменальней. И все же
серьезность Гала, выражение ее лица, ее абсолютная честность
заставили меня сказать правду:
- Клянусь, я не копрофаг. И так же, как вы, боюсь этого рода
безумия. Но думаю, что подобные грубые элементы можно
использовать как терроризирующие, они так же имеют право на
существование, как кровь или моя кузнечиковая фобия.
Я ожидал, что Гала с облегчением услышит мой ответ, но ее
нежно-бледное лицо по-прежнему выражало озабоченность, будто
что-то еще мучило ее. Мне хотелось сказать ей: "А вы? Что мучает
вас? О чем вы молчите?" Но и я промолчал. Мне мешала говорить ее
кожа, такая близкая ко мне, такая естественная. Кроме болезненной
красоты лица, в ней таилось еще немало элегантности. Я смотрел на
ее стройную талию, на победительную походку и говорил себе с
некоторой долей эстетического юмора: "У Победы тоже может быть
омраченное плохим настроением лицо. Не надо прикасаться к этому".
И все же я захотел прикоснуться к ней, обнять ее, когда Гала
взяла меня за руку. Тут подкатил смех и я стал хохотать, и чем
сильнее, тем это было обиднее для нее в данный момент. Но Гала
была слишком горда, чтобы обижаться на смех. Сверхчеловеческим
усилием она сжала мою руку, а не бросила ее пренебрежительно, как
сделал бы любая другая женщина. Ее медиумическая интуиция
объяснила ей значение моего смеха, такого необъяснимого для
других. Мой смех не был "веселым", как у всех. Он не был ск-
ептическим или легкомысленным, но он был фанатизмом, катаклизмом,
пропастью и страхом. И самым ужасающим, самым катастрофическим
хохотом я дал ей понять, что бросаю его к ее ногам.
- Малыш, - сказала она, - мы больше не расстанемся.
Она будет моей Градивой ("Градива" ("Gradiva") - роман
В.Иенсена, переложенный Зигмундом Фрейдом в работе "Бред и сны в
"Градиве" В.Иенсена". Героине этого романа, Градиве, удается
излечить психику героя. Только взявшись за роман во фрейдовской
интерпретации, я сразу же сказал: "Гала, моя жена, в сущности
является Градивой".) ("ведущей вперед"), моей Победой, моей
женой. Но для этого надо, чтобы она излечила меня. И она излечила
меня благодаря своей беспримерной, бездонной любви, глубина
которой проявилась на практике и превзошла самые амбициозные
методы психоанализа. Вначале наши отношения были отмечены болезн-
енной необычностью и явными психопатическими сиптомами. Мой смех
из эйфорического стал мучительным и раздраженным и я был близок к
истерическому состоянию, которое начинало тревожить меня, хотя я
снисходительно относился к своим взрывам смеха. Я совершенно впал
в детство, и это подтверждалось тем, что Гала казалась мне той же
маленькой девочкой из моих ложных воспоминаний, которую я назвал
Галючкой - уменьшительным именем Гала. С новой силой нахлынули
головокружения и видения. На экскурсиях по скалам бухты Креус я
безжалостно требовал, чтобы Гала карабкалась со мной по всем
самым опасным и самым высоким уступам. Эти восхождения содержали
с моей стороны явные криминальные намерения - особенно в тот
день, когда мы взобрались на самую вершину огромной глыбы розо-
вого гранита, макушка которой напоминала развернутые крылья орла
над пропастью. Спускаясь с орла, я вздумал столкнуть в пропасть
огромные куски гранита. Они с грохотом катились до моря. Я
никогда не устал бы от такой игры. Но почувствовал искушение
толкнуть Гала вместо одного из гранитных обломков и испугался.
Этот страх заставил меня уйти от этого места, где я ощущал
постоянную опасность и был ужасно возбужден. В моем сердце начин-
ала просыпаться та же досада, какую вызывала у меня Дуллита. Гала
ворвалась ко мне и нарушила мое одиночество. И я изводил ее
несправедливыми упреками, твердя, что она мешает мне работать,
что ее присутствие обезличивает меня. Больше того, я убеждал
себя, что она причинит мне зло и говорил ей, как будто внезапно
охваченный страхом:
- Не причиняйте мне зла. Я тем более не причиню вам зла.
Надо, чтобы мы никогда ни причиняли друг другу зла.
Затем я предложил ей прогулку туда, откуда открывается
удивительная панорама Кадакеса. Наконец мы нашли такую точку
зрения. Хочу воспользоваться ею, читатели, чтобы сверить с вами
часы. Созерцайте пейзаж вместе со мной в этой кульминации нашей
прогулки и всей моей жизни. Восхождение было нелегким и утомило
нас. Эта глава переходит в свою вторую половину, и нам необходимо
передохнуть, прежде чем спускаться более элегически, отдохнувшим
шагом людей, уже имеющих опыт пройденного пути. Пока наши тела
отдыхают, позвольте мне взволновать вас, рассказав историю,
которую я слыхал от своей кормилицы Лусии. Здесь вы не только
узнаете Гала в Девушке, но и меня самого в Короле. Вот эта сказк-
а, которую я назвал для вас- ВОСКОВАЯ КУКЛА СО СЛАДКИМ НОСОМ.
Жил однажды король не без любовных странностей. Каждый день
он звал трех самых красивых девушек королевства поливать гвоздики
в своем саду. Целыми часами сидел он в высокой башне, наблюдая за
ними и выбирая ту, которая проведет ночь на королевском ложе,
вокруг которого курились редчайшие благовония. Наряженная в самое
красивое платье и украшенная дорогими самоцветами, избранница
короля должна была всю ночь спать рядом с ним или притворяться
спящей. Король не прикасался к ней и только любовался ею всю
ночь. На рассвете он отрубал ей голову одним взмахом меча.
Сделав свой выбор, король перегибался через крепостную стену
башни и обращался к одной из трех девушек с неизменным вопросом:
- Сколько гвоздик в моем саду?
Та, на которую падал выбор, узнавала таким образом свою
судьбу и в то же время свой смертный приговор и должна была
неизменно отвечать:
- Сколько звезд на небе!
После этого король скрывался, а девушка бежала домой -
сообщить родителям о свадьбе-похоронах и надеть свое самое
красивое платье. Шли годы. Однажды король выбрал себе в ночные
невесты самую прекрасную и самую мудрую девушку королевства. Она
была настолько умна, что когда король задал ей вопрос и получил
ожидаемый ответ, успела вернуться к себе и смастерила по
собственной затее восковую куклу, к которой приклеила сахарный
нос. Очутившись в спальне, озаренной тысячей свечей, и ожидая
прихода царственного мужа, она ловко уложила на роскошное ложе
восковую куклу с сахарным носом, а сама спряталась под кровать.
Вошел король, разделся, лег на ложе рядом с куклой и всю ночь
провел, любуясь ею, как ему было привычно. На заре он обнажил меч
и отрубил голову своей восковой невесте. От сильного удара сладк-
ий нос отклеился и попал прямехонько в рот королю, который
распробовал его сладкий вкус и с сожалением изрек: Сладкая была
жива, Сладкая теперь мертва, Если б я тебя познал, То тебя б
казнить не стал!
Услышав такие слова, хитроумная красавица выбралась из
укрытия и повинилась перед королем в своей уловке. Излечившись от
своего преступного пристрастия, он женился на ней. Конец сказки
уверяет нас, что они жили счастливо. ТОЛКОВАНИЕ СКАЗКИ
Попробуем растолковать сказку в свете нашего собственного
психоанализа. Начнем с исходного элемента системы: восковая
кукла. Воск с его характерным мертвенно-бледным цветом (говорят
ведь "мертвенно-бледный" или "восковая бледность")- материал,
который позволяет имитировать живые фигуры самым страшным и
мрачным образом. Он не отталкивает, мы даже находим его приятным
(сладким) по разным причинам, а не только из-за его неразрывной
связи с медом. Его проводимость равна нулю. "В тепле воск
плавится, тогда как другие пластичные вещества, например,
гончарная глина, имеют свойство высыхать и твердеть. Это таяние
идентично гниению трупов, с той лишь разницей, что умирание воска
приятно, а не отталкивающе. На головокружительной вершине моей
гипотезы надо вообразить кладбище, обкуриваемое ароматом заж-
женных восковых свечей, который сменяется запахом смерти.
Восковая свеча, истаивающая без пота, без затхлой вони жизни, см-
ешиваясь с естественным запахом смерти, придает ей скоротечную
иллюзию увлекательного представления. Итак, на мой взгляд, воск
.своим идеализированным представлением о смерти способен довести
желания и некрофильские порывы до копрофагических миражей,
присущих "низким желаниям".
Но вернемся к нашей сказке. И мы заметим: некрофильские
чувства короля заставляли его скрывать и прятать свою
"неутоленную любовь" до самого финального взмаха мечом. В самом
деле, надо было, чтобы жертва оставалась неподвижной всю ночь:
она спала - или притворялась спящей, словом, прикидывалась
мертвой. Фантазия короля требовала также, чтобы она была наряжена
в свое лучшее платье, как покойница. Вокруг горели свечи, как
около покойницы. Эта нервическая преамбула имела своей целью лишь
патологически имитировать серию идеализированных погребальных
представлений. Король воображал свою жертву мертвой намного
раньше кульминации, когда он наконец воплощал свое желание и
реально убивал мечом невесту одной ночи. И это был миг
наслаждения, которое, по его заблуждению, подменяло миг оргазма и
семяизвержения.
Поучительный момент сказки: хитроумная красавица ведет себя
как самый тонкий знаток современных психологических методов. Она
осуществляет почти магическую замену, которая должна излечить ее
мужа. Восковая кукла предстает перед королем как самая прекрасная
и подлинная покойница. Иллюзия совершенная, и, если можно так
выразиться, метафизическая. Просто отвались нос - король, может
быть, испытал бы в душе угрызения совести. Бессознательный
каннибал-копро-некрофил в душе, он стремился лишь познать
истинный вкус смерти, но его зацикленность мешала ему сделать это
иным образом и естественным путем, без псевдосна, воска и
погребальных декораций. Вкусный сахарный нос смог лишь удивить и
глубоко разочаровать его, а также показаться необычным. Король
хотел поглотить труп и вместо ожидаемого вкуса нашел сахар. Этого
было достаточно, чтобы он излечился. Он больше не желал есть
трупы. Между прочим, сахар играет еще более тонкую роль в моей
сказке. Если король разочарован, то только наполовину: во-первых,
речь идет о сахаре, во-вторых, в этот миг король насладился и
вновь смог мгновенно приобщиться к реальности. Вкус сахара
послужил "мостом" для желания, переходом от смерти к жизни. И
сладострастное семяизвержение фиксируется в ту секунду жизни,
которая так неожиданно заменяет секунду смерти. Сладкая была
жива, Сладкая была мертва, Если б я тебя познал, То тебя б
казнить не стал!
Король сожалеет, что убил, и это подтверждает предвидение
хитроумной красавицы. Вот еще раз воплощенный миф, лейтмотив моей
жизни и моей эстетики: смерть и возрождение! Восковая кукла с
сахарным носом тоже оттуда. Это одно из тех "существ-предметов",
порожденных бредом, выдуманных увлечением женщины, как сказочная
героиня, как Градива и Гала, с помощью которых из нравственного
потемок прорастает побег ясного ума безумцев.
Для моего безумия и ясного разума проблема была в том, где
провести границу между Галючкой моих ложных воспоминаний, хим-
ерической и умиравшей сто раз в моем желании абсолютного
одиночества, и истинной Гала Редивива. В своем тогдашнем безумии
я не мог провести и этой границы. В сказке моей кормилицы такая
межа размещается в пределах поистине "сверхестественного предм-
ета" (В самом деле, героиня, изобретательница восковой куклы с
сахарным носом, создала удивительный "сверхестественный предмет с
символическим функционированием" (наподобие тех, которые в 1930
году я изобрету в Париже). Этот предмет должен быть "пущен в ход"
ударом меча, а развязка - прыжок носа в рот некрофила, который в
миражах и представлениях, в тоскливых чувствах бессознательного
копро-некрофила прерывает жизнь) там, где кончается восковая
кукла и начинается сахарный нос и Зоя Бертранд в "Градиве"
Иенсена( Зоя Бертранд - истинная героиня - двойник мифического
образа Градивы в романе Иенсена, о котором я упоминал выше.) Вся
сложность дилеммы в установлении этих границ.
Теперь, когда мои читатели знают эту сказку и ее психоан-
алитическую интерпретацию, возобновим наш путь и проведем
параллель между мной и королем. Я продолжу рассказ о моей истории
с Гала. Как вы знаете, я также был королем. Все детство я прожил
переодетым в короля. Подростком я развивался лишь в направлении
абсолютной автократии. Так же, как король, я решил, что образ
моей любви должен притворяться, что спит. Всякий раз, когда он
пытался двигаться, я кричал ему "Ты мертва!" - и невидимый хим-
ерический образ "прикидывался мертвым". В редких случаях, когда
образ Галючки материализовался (например, в лице Дуллиты),
авантюра рисковала плохо обернуться. Опасность подстерегала меня,
я был близок к преступлению. Как король из сказки, я порочно
любил насколько возможно растягивать тоскливое ожидание, в
котором таилось беспокойное сладострастие величайшего мифа
"неутоленной любви". Я также...
Но этим летом я узнал его, этот образ Галючки Редивива!
Воплотившийся ныне в Гала, он не подчинялся более простой
авторитарной команде - явиться "изобразить покойницу" у моих ног.
Я приближался к величайшему испытанию своей жизни - испытанию
любовью. Моя любовь, любовь полубезумца, не могла быть такой, как
у других. Чем больше приближался час жертвоприношения, тем меньше
я осмеливался думать об этом. Иногда, простившись с Гала у двери
"Мирамара", я глубоко вздыхал: "Это ужасно, - говорил я себе,
-это ужасно! И что же? Ты провел жизнь, желая того, что
появилось; и больше того - это Она! А сейчас, когда желанный миг
приближается, ты умираешь от страха, Дали!" Приступы смеха и
истерии обострялись, мой разум обретал гибкость и ловкость,
свойственные защитным механизмам. Мои увертки и мои капеас (в бое
быков капеа (сареа) - это начальных выход тореро в плаще (cape),
который помогает ему защититься от животного.) - с ними мне
предстояло стать торреадором в главном вопросе моей жизни: это
бык из моего желания собирался предстать передо мной с минуты на
минуту и поставить ультиматум, кому быть убитым - ему или мне.
Гала начала делать намеки на "что-то", что "неизбежно" должно
было произойти между нами, что-то решающее, очень важное для
наших отношений. Но могла ли она рассчитывать на мое состояние -
нервное и очень далекое от нормализации, разодетое в самые яркие
лохмотья безумия? Однако мое состояние передавалось и ей и тоже
лишало ее равновесия. Мы медленно шли среди оливковых посадок,
ничего не говоря друг другу, во взаимном напряжении. Долгие
прогулки не могли усмирить наших подавленных и раздраженных
чувств. Не нужно утомлять разум, как мы хотим. Пока инстинкты
остаются преступно неудовлетворенными, нет передышки ни душе, ни
телу. Эти прогулки напоминали блуждания двух сумасшедших. Иногда
я падал на землю и страстно целовал туфли Гала. Что происходило
во мне в эту минуту, если мои угрызения совести обретали такую
безумную форму? Как-то вечером за время прогулки ее дважды
вырвало, ее скрутили болезненные судороги, остаточные явления
длительной психической болезни, терзавшей ее в юности. В то время
я писал "Аккомодацию желаний", картину, в которой желания
представали в виде львиных голов, внушающих страх. Гала говорила
мне:
- Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть.
Я думал, что это немногим отличалось от моих львиных голов,
заранее стремясь привыкнуть к ужасным образам, о раскрытии
которых мне было объявлено. Никогда я не настаивал, чтобы Гала
ускорила свои признания, наоборот, ждал их как неизбежного
приговора, после которого, раз бросив жребий, мы уже не смогли бы
отступить. Я еще не превратил свою жизнь в любовь. Этот акт
казался мне ужасным насилием, несоответствующим моей физической
силе... "Это не для меня". Сколько мог, я повторял Гала:
- Главное - мы обещали никогда не делать друг другу больно.
Стоял сентябрь. Друзья-сюрреалисты уехали в Париж. И Элюар
тоже. Гала осталась в Кадакесе. С каждой новой встречей мы как бы
говорили себе: "Пора с этим покончить". Начался сезон охоты, и
наши прогулки сопровождались выстрелами, отраженными гулким
горным эхом. Чистое и ясное августовское небо исчезло, пришли
спелые осенние облака. Скоро будем собирать плоды нашей страсти.
Сидя на куче камней, Гала ела черный виноград. И становилась
прекрасней с каждой ягодой. Виноград таял, и тело Гала казалось
мне созданным из мякоти белого муската. Завтра? Мы думали об этом
непрерывно. Принося ей гроздья, я давал ей выбирать: белый или
черный.
В решающий день она оделась в белое и такое тонкое платье,
что увидев ее рядом на тропинке, я вздрогнул. Дул сильный ветер,
и я изменил наш маршрут, повернув с Гала к морю, к скамье,
высеченной в скале и укрытой от ветра. Это было одно из самых
пустынных мест в Кадакесе. И сентябрь повесил над нашими головами
серебрянную подковку луны. У нас в горле стоял ком. Но мы не
хотели плакать, мы хотели покончить с этим. У Гала был
решительный вид. Я обнял ее:
- Что вы хотите, чтобы я сделал?
Волнение мешало ей говорить. Она пыталась несколько раз, но
не могла. Слезы текли по ее щекам. Я настаивал на ответе. Тогда,
разжав зубы, она сказала тонким детским голоском:
- Если вы не захотите это сделать, не говорите об этом
никому!
Я поцеловал ее приоткрывшиеся губы. Я никогда еще так не
целовался, так глубоко и не думал, что такое может быть. Все мои
эротические "Парсифали" пробудились от толчков желания в так
долго подавляемом теле. Этот первый поцелуй, в котором
столкнулись наши зубы и сплелись наши языки, был лишь началом
голода, который побуждал нас вкушать и поедать из глубины самих
себя. Так я пожирал ее рот, кровь которого смешалась с моей
кровью. Я исчезал в этом бесконечном поцелуе, который разверзся
подо мной как бездна водоворота, в который меня затягивало
преступление и который, я чувствовал, грозил проглотить меня...
Я оттянул голову Гала за волосы и истерично велел ей:
- Немедленно скажите мне, что вы хотите, чтобы я с вами сдел-
ал. Ну скажите же мне, тихо, глядя в глаза, самыми безжалостными
словами, самыми непристойными, пусть даже будет стыдно нам обоим!
Я не хотел упустить ни одной детали этого разоблачения,
таращил глаза, чтобы лучше видеть, чтобы лучше чувствовать, как я
умираю от желания. Лицо Гала приобрело самое прекрасное
выражение, какое только может быть у человека, и оно показало
мне, что нас не спасет ничто. Мое эротическое влечение довело
меня в этот миг до уровня слабоумия, и я повторил:
-Что-вы-хо-ти-те.что-бы-я-сде-лал-с-ва-ми?
Ее лицо изменилось, стало жестким и повелительным:
- Я хочу, чтобы вы вышибли из меня дух.
Никакое толкование в мире не могло изменить смысл этого зова,
который выражал то, что хотел выразить.
-Вы сделаете это? - спросила она.
Меня поразило и разочаровало, что мне предложили в дар мою
собственную "тайну" вместо эротического предложения, которого я
ждал от нее. Растерявшись, я не сразу ответил. И услышал, как она
повторила:
- Вы сделаете это?
Ее дрогнувший голос выдал ее колебания. Я овладел собой,
боясь разочаровать Гала, рассчитывающую на мое безумство и
отвагу. Я обнял ее и торжественно сказал:
-Да!
И снова крепко поцеловал ее, в то время как внутренний голос
твердил во мне: "Нет, нет, я не убью ее!". Этот поцелуй Иуды,
лицемерие моей нежности, оживил Гала и спас мою душу. Гала стала
объяснять мне подробности своего желания. И чем больше она
объясняла, тем больше охватывали меня сомнения. Я говорил себе:
"Еще не сказано окончательно, что она просит меня убить ее!". Но
никакая щепетильность нравственного порядка не могла мне пом-
ешать. Мы достигли согласия, и преступление легко можно было бы
выдать за самоубийство, особенно если бы Гала заранее оставила
мне письмо, раскрывавшее подобные намерения. Она описывала сейчас
свой страх "часа смерти", мучивший ее с детства. Она хотела,
чтобы это произошло и она не узнала ужаса последних мгновений.
Мысль молнией обожгла меня: а если сбросить ее с высоты башни
Толедского собора? Я уже думал об этом, поднимаясь туда с одной
из самых красивых своих подруг мадридского периода. Но эта идея
не понравилась Гала: она боялась испугаться за время долгого
падения. И потом - как бы я объяснил свое присутствие с ней рядом
наверху? Простая процедура с ядом не подошла еще больше, и я
постоянно возвращался к своим роковым пропастям. На миг я возм-
ечтал об Африке, которая казалась мне особенно благоприятной для
преступлений такого рода, но отказался и от этой идеи. Там было
очень жарко. Я отвлекся от поиска смертельных уловок и перенес
свое внимание на Гала, которая говорила с исключительным
красноречием. Ее желание умереть в непредсказуемый и счастливый
миг жизни не было вызвано романтическим капризом, как можно было
бы подумать. С самого начала я сразу же понял, что это было, нао-
борот, жизненно важно для нее. Ее восторг не мог оставить никаких
сомнений по этому поводу. Идея Гала была смыслом ее психической
жизни. Она сама могла бы раскрыть истинные причины своего
решения. Несмотря на ее позволение, я отказываюсь раскрыть ее
тайную жизнь. В этой книге один-единственный колесованный,
четвертованный и распятый, с содранной заживо кожей - и пусть это
буду я. Я делаю это не из садизма или мазохизма, а из самовлюбл-
енности. Я только что видел Гала, терзаемую муками. И вот она
явилась мне еще прекраснее, еще величественнее и горделивее. И я
еще раз сказал себе: она права, еще не было сказано, что я этого
не сделаю...
Сентябрь "сентябрил" вино и луны мая, луны сентября
превратили в уксус май моей старости, опустошенной страстями...
Горечь моего отрочества под сенью колокольни Кадакеса высекла в
новом камне моего сердца: "Лови момент и убей ее..." Я думал, что
она научит меня любви и что потом я снова буду один, как всегда
желал. Она сама этого хотела, она этого хотела и потребовала от
меня. Но мой энтузиазм дал трещину. "Ну что с тобой, Дали? Тебе
подарили случай совершить твое преступление, а ты его больше не
хочешь!" Гала, хитроумная красавица из сказки, по своему желанию
неловким ударом меча отсекла голову восковой кукле, которую я с
детства видел на своей одинокой постели, и мертвый нос только что
впрыгнул в сахар, обезумев от моего первого поцелуя! Гала спасла
меня от моего преступления и излечила мое безумие. Спасибо! Я
буду любить тебя. Я женюсь на тебе.
Истерические симптомы исчезли один за другим как по
волшебству, и я снова стал хозяином своей улыбки, своих движений.
Здоровье, как роза, расцветало в моей голове. Проводив Гала до
вокзала в Фигерасе, где она садилась на свой парижский поезд, я
воскликнул, потирая руки:
- Наконец-то один!
Ведь если мои смертельные детские головокружения были
излечены, требовалось время, чтобы излечиться от моего желания
одиночества.
- Гала, ты реальна!
Я часто думал об этом, сравнивая ее, создание из плоти и
крови, с идеальными образами моих псевдо-любовей. И с трудом
натягивал ее шерстяную пляжную майку, которая немного сохранила
ее запах. Я хотел знать ее, живую и естественную, но мне
требовалось также время от времени оставаться одному. Новое
одиночество показалось мне более достоверным, чем прежде, и я
полюбил его еще больше. На целый месяц я заперся в фигерасской
мастерской и вернулся к моей монашеской жизни, завершая портрет
Поля Элюара и еще два полотна, одно из которых станет очень
известным. Оно изображало большую мертвенно-бледную и восковидную
голову с розовыми щеками и длинными ресницами. Огромный нос
упирался в землю. Вместо рта был кузнечик, брюшко которого, разл-
агаясь, кишело муравьями. Голова заканчивалась орнаментацией в
стиле девятисотых годов. Картина называлась "Великий
Мастурбатор".
Законченные произведения я передал фигерасскому столяру,
который упаковал их с маниакальной заботой, чего я от него и
требовал. Этого человека поистине следует внести в список моих
безвестных мучеников. Я уехал в Париж, где с 20 ноября по 5 дек-
абря должна была состояться моя выставка в галерее Гойманса.
Первое, что я сделал по приезде, - купил цветы для Гала. Я зашел
к цветочнице и спросил, что у нее лучше всего. Мне посоветовали
алые розы. В вазе стоял огромный букет. Указав на него, я
справился о цене.
- Три франка, сударь.
- Дайте мне десять таких.
Продавщицу ужаснул этот заказ. Она не знала, найдется ли у
нее такое количество. Но я настаивал на своем, и она быстро
подсчитала, пока я писал записочку для Гала. Я взял счет и
прочел: "3000 франков". У меня с собой не было столько, и я
попросил объяснить тайну такой цены. Букет, на который я показал,
состоял из ста роз, по три франка каждая. А я думал, что три
франка стоит букет.
- Тогда дайте мне на 250 франков!
Больше у меня с собой не было. Полдня я бродил по улицам. Мой
обед состоял из двух перно. Затем я отправился в галерею Гойм-
анса, где встретил Поля Элюара, который сказал мне, что Гала
ждала меня и была удивлена, что я не назначил час нашей встречи.
А я так и намеревался бродить несколько дней в одиночестве,
радуясь сладострастному удовольствию ожидания. Наконец, вечером я
нанес визит Гала и остался на ужин. Гала лишь на миг показала
свое недовольство, и мы сели за стол, уставленный невероятным
кортежем разнообразных бутылок. Алкоголь, выпитый в Мадриде,
встал в могиле моего дворца, как мумия Лазаря, которому я скоман-
довал: "Иди!" И она пошла к испугу всех людей. Это возрождение
вернуло мне утраченное красноречие. Я велел мумии: "Говори!" - и
она заговорила. Это было открытие - обнаружить, что кроме картин,
которые я был способен писать, я не был законченным идиотом во
всех других отношениях. Оказалось, что я могу еще и говорить, и
Гала с преданным и настойчивым упорством взялась убедить друзей-
сюрреалистов, что я способен писать даже философские тексты,
содержание которых обгоняло предвидение группы. В самом деле, она
собрала в Кадакесе отрывочные и непонятные тексты, которым ей
удалось придать связную "форму". Эти заметки были уже довольно
развитыми, я восстановил их и собрал в поэтический и теоретическ-
ий сборник, который должен был выйти под названием "Видимая
Женщина". Конечно, "видимой женщиной" моей первой книги была
Гала. Идеи, которые я излагал в книге, были встречены в
сюрреалистической группе недоверчиво, а порой даже враждебно.
Гала, между прочими делами, должна была сражаться, чтобы мои идеи
были хотя бы приняты к сведению самыми расположенными к нам
друзьям. Все уже бессознательно догадывались, что я пришел
разрушить их революционные попытки - их же собственным оружием,
но более грозным и лучше отточенным. Уже с 1929 года я выступал
против "интегральной революции", развязанной суетой этих послево-
енных дилетантов. С таким же жаром, как и они, пускаясь в самые
разрушительные и безумные умозрительные построения, я с
коварством скептика готовил уже структурные основы будущих
исторических ступеней вечной традиции. Сюрреалисты, создавшие
группу, казались мне единственным средством, которое служило бы
моим целям. Их лидер Андре Бретон был, на мой взгляд, незаменим в
главной роли. Я пробовал было править, но мое влияние было бы
скрыто оппортунистическим и парадоксальным. Выжидая, я изучал
свои сильные места и слабые точки, а также достоинства и
недостатки моих друзей, ибо они были моими друзьями. Я поставил
перед собой аксиому: "Если ты решишь воевать ради собственной
победы, неумолимо разрушай тех, кто схож с тобой. Всякий союз
обезличивает. Все коллективное означает твою гибель. Воспользуйся
коллективом себе на пользу и потом наноси удар, ударь сильно и
оставайся один!"
Я остался один, но постоянно с Гала. Любовь сделала меня
снисходительным и великодушным. Меня переполняли завоевательские
планы, Но вдруг они показались мне преждевременными. И я, самый
амбициозный из современных художников, решил уехать с Гала в
свадебное путешествие ровно за два дня до открытия моей первой
выставки в Париже, столице художников. Так я даже не увидел афишу
моей первой выставки. Сознаюсь, что в путешествии Гала и я были
так заняты своими телами, что почти не думали о моей выставке,
которая была уже нашей выставкой. Наша идиллия разворачивалась в
Барселоне, затем - на соседнем курорте Ситчесе, пустынный пляж
которого сверкал под зимним средиземноморским солнцем.
Уже месяц я ни строки ни писал родным, и легкое чувство вины
одолевало меня каждое утро. Я сказал Гала:
- Это не может длиться вечно. Вы знаете, что я должен жить
один.
Гала оставила меня в Фигерасе и уехала в Париж. В семейной
столовой разразился ураган. В меня метали громы и молнии по
малейшей жалобе отца, опечаленного все более и более высокомерным
отношением, которое я проявлял к семье. Шла речь и о деньгах. Я в
самом деле подписал контракт на два года с галереей Гойманса и
даже не вспоминал о продлении этого контракта. Отец просил меня
найти его. У меня не было времени, ответил я, и в любом случае я
был очень занят в тот период. Также я добавил, что потратил весь
аванс, выданный Гоймансом, и это встревожило всю семью. Тогда,
пошарив по карманам и вывернув их, я по одному вытащил помятые и
почти не использованные банковские билеты. Мелочь я выбросил в
каком-то сквере перед вокзалом. На стол я выложил более трех
тысяч франков, оставшихся после путешествия.
На другой день в Фигерас приехал Бунюэль. Он получил от
виконта Ноайе права на постановку фильма, который мы придумали.
Это был тот самый виконт, который купил мою "Мрачную игру". Почти
все картины, выставленные у Гойманса, продавались по цене от
шести до двенадцати тысяч франков. Я уехал в Кадакес, задрав
голову от своего успеха, и взялся за "Золотой век". По моей
мысли, этот фильм должен был передать силу любви и запечатлеть
великолепные творения католических мифов. Уже тогда я был поражен
и одержим величием и роскошью католичества.
- Для этого фильма, - сказал я Бунюэлю, - нужно много
архиепископов, мощей и ковчегов. Особенно мне нужны архиепископы
в вышитых митрах, купающиеся среди скал бухты Креус.
Бунюэль со своей арагонской наивностью и упрямством превращал
все это в наивный антиклерикализм. Я все время останавливал его,
говоря:
- Нет, нет. Ничего комического. Архиепископы нравятся мне.
Даже очень нравятся. Мне хочется несколько кощунственных образов,
но в это надо вложить фанатизм, как в настоящее святотатство.
Бунюэль уехал со сценарием, чтобы начать делать монтажные
листы в Париже. И я остался в Кадакесе один. Здесь я съедал в
один присест три десятка морских ежей, залитых вином, и шесть
отбивных, поджаренных на побегах виноградной лозы. По вечерам я
наслаждался рыбными супами, треской в томате или жареной с
укропом. Как-то, открывая морского ежа, я увидел рядом с собой на
берегу моря белую кошку, из глаза которой били серебрянные лучи.
Я подошел к ней, но кошка не убежала. Наоборот, она в упор
смотрела на меня - и я увидел, что ее глаз проколот большим
рыболовным крючком, острие которого выступает из расширенного и
залитого кровью зрачка. Было страшно смотреть на это и невозможно
вытащить крючок, не вынув глаз из орбиты. Я стал бросать в нее
камни, чтобы прекратить это кошмарное действо. Но в последующие
дни, открывая морских ежей, я видел образ кошки, и меня охватывал
ужас (больше всего на свете я люблю вкус морских скалистых ежей,
красных и отливающих средиземноморской луной. Мой отец любил их
еще больше).
Я понял, что кошка что-то предвещает. И в самом деле, через
несколько дней я получил письмо от отца, который сообщил мне, что
меня окончательно изгнали из семьи. Я нераскрою здесь тайну,
которая объяснила бы нашу ссору. Это касается лишь отца и меня. И
я не намерен бередить рану, которая на протяжении шести лет
мучила нас обоих.
Первая моя реакция на письмо - отрезать себе волосы. Но я
сделал по-другому: выбрил голову, затем зарыл в землю свою
шевелюру, принеся ее в жертву вместе с пустыми раковинами морских
ежей, съеденных за ужином. Сделав это, я поднялся на один из
холмов Кадакеса, откуда открывалось все селение, и провел там два
долгих часа, любуясь панорамой моего детства, отрочества и
зрелости.
Вечером я заказал такси, которое на следующий день довезло
меня до границы, где я пересел в парижский поезд. За завтраком я
ел морских ежей, политых терпким кадакесским вином. На стене
виднелся профиль моей свежевыбритой головы. Я возложил на голову
раковину и предстаю перед вами - как Вильгельм Телль. Дорога от
Кадакеса до ущелья Пени - серпантин. Каждый поворот возвращает
вид селения и бухты. На последнем повороте с самого детства я
всегда оборачивался, чтобы еще раз наполнить глаза милым моему
сердцу пейзажем. Но сегодня, в такси, не повернув головы, чтобы
вобрать последнее изображение, я продолжал смотреть вперед.