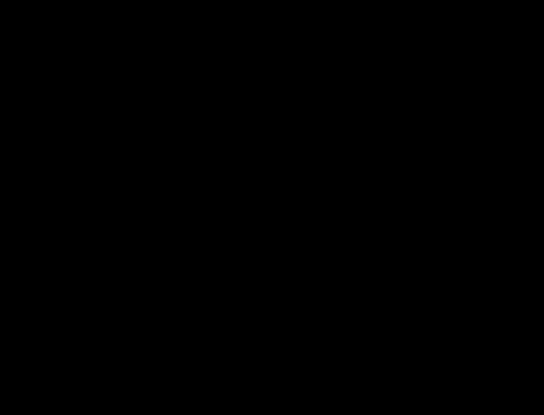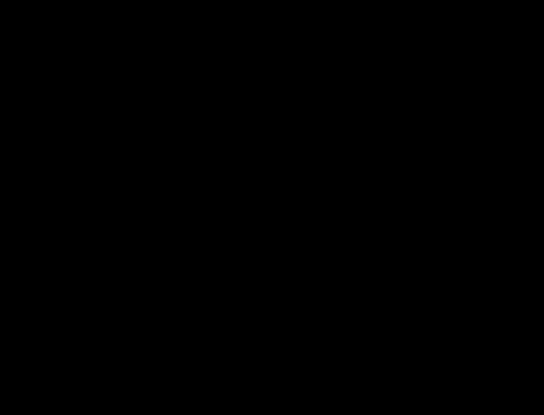САЛЬВАДОР ДАЛИ
Тайная жизнь Сальвадора Дали,
рассказанная им самим
A
Gala-Gradiva
celle qui avance.
ГАЛА-ГРАДИВЕ
той, что вела меня
вперед
Ну не гений ли я?
В шесть лет я хотел стать поваром. В семь - Наполеоном. Да и
позднее мои притязания росли не меньше, чем тяга к величию.
В дневнике Стендаля приведены слова некоей итальянской марк-
изы, отведавшей мороженого в знойный летний вечер: "Как жаль, что
это не греховное удовольствие!" Так вот, когда мне было шесть
лет, есть прямо на кухне было серьезным прегрешением. Входить в
эту часть дома мне было запрещено родителями. Помню, часами,
глотая слюнки, я улучал момент, чтобы проникнуть в святая святых,
место безумных наслаждений. И, наконец, прорывался туда,
преследуемый криками служанок... И, рискуя и задыхаясь, хватал то
ломтик сырого мяса, то жареный гриб, испытывая такую радость и
невыразимое счастье, что одно это усугубляло вину.
Все остальное мне позволяли. А вот входить на кухню - ни-ни.
Я писался в постель чуть ли не до восьми лет - только ради своего
удовольствия. В доме я царил и повелевал. Для меня не было ничего
невозможного. Отец и мать разве что не молились на меня. На день
Инфанты я получил среди бесчисленных подарков великолепный костюм
короля с накидкой, подбитой настоящим горностаем, и корону из
золота и драгоценных камней. И долго потом хранилось у меня это
блистательное (хотя и маскарадное) подтверждение моей
избранности. Помню: служанки бдительно следили, чтобы запрет не
нарушался, и чуть что - прогоняли меня... И вот я стою как
вкопанный в полутьме коридора, одетый в свое королевское платье,
в одной руке - скипетр, в другой - вздрагивает хлыстик: вот я их
сейчас отхлещу, этих скотин, будут знать, как смеяться надо мной!
Такие сцены разыгрывались, как правило, ближе к полудню - в тот
томительный летний час, когда в спертом воздухе рождаются миражи.
Я прячусь за приоткрытой дверью кухни и слышу, как скачут за мной
галопом эти женщины-животные с красными руками, вижу их могучие
крупы, встрепанные гривы. Из полуденного зноя и смутного шума
обеденных приготовлений ко мне доносится кисловатый дух женского
пота, виноградных ягод, топленого масла, выдранного из кроличьих
подмышек пуха, почек и майонеза - предвосхищающих аромат еды - и
все вместе сливается в какое-то подобие конского запаха. Белок
разбитого яйца, сверкающий как луч солнца, пробивается сквозь
клубы дыма и тучи мух и блестит точь-в-точь как пена, что
сбивается на губах исхлестанных в кровь лошадей после долгого
пыльного бега. Как уже говорилось, я был избалованным,
испорченным ребенком...
Мой брат умер от менингита семи лет, года за три до моего
рождения. Отчаявшиеся отец и мать не нашли иного утешения, кроме
моего появления на свет. Мы были похожи с братом как две капли
воды: та же печать гениальности(Позже, в 1929 году, у меня
появилось четкое осознание своей гениальности, и оно так укреп-
илось во мне, что не вызывает никаких так называемых возвышенных
чувств. И все же должен признать, что эта вера во мне - одно из
самых приятных постоянных ощущений.), то же выражение
беспричинной тревоги. Мы различались некоторыми психологическими
чертами. Да еще взгляд у него был другой - как бы окутанный мел-
анхолией, "неодолимой" задумчивостью. Я был не так смышлен и,
видимо, взамен наделен способностью все отражать. Я стал в высшей
степени отражателем из-за своей "искаженной полиморфности", а
также феноменальной отсталости в развитии; запечатлев в памяти
смутные райские воспоминания грудного младенца - эротического
происхождения, я цеплялся за удовольствия с безграничным
упрямством эгоиста. И не втречая сопротивления, становился
опасным. Как-то вечером я до крови исцарапал булавкой щеку моей
дорогой кормилицы - только за то, что лавка, куда она меня водила
покупать мои любимые лакомства, была уже заперта. Итак, без сомн-
ения, я был жизнеспособен. Мой брат был только первой пробой меня
самого, вплотившегося в невозможном, абсолютном избытке.
Сегодня мы знаем: форма всегда есть результат инквизиторского
насилия над материей. Пространство давит на нее со всех сторон -
и материя должна упираться и напрягаться, хлестать через край до
предела своих возможностей. Кто знает, сколько раз материя,
одушевленная порывом абсолютного избытка, гибнет, уничтожается? И
даже куда более скромная в своих притязаниях, более приспособл-
енная материя сопротивляется тирании пространства, согласуясь с
сутью своей оригинальной формы. Есть ли что-либо легче, вольнее,
фантазийнее цветения минеральных кристаллов? Но и они - продукт
принуждения более концентрированной "коллоидной среды", которая,
мучая их, заключает в жесткую структуру. Самые совершенные, самые
воздушные разветвления - всего лишь график агонии, отчаянных мук,
последних вздохов материи, которая умирает, но не сдается,
последнее цветение мира минералов. Но и для розы закон тот же!
Каждый цветок распускается в неволе. Свобода бесформенна.
Морфология (слава Гете, изобретшему это слово в восторге перед
творческой бесконечностью Леонардо) - так вот, морфология
открывает нам, что наряду с триумфальным царством жесткой
иерархии форм есть более анархические, более разнородные
тенденции, раздираемые противоречиями.
Так узкие и ограниченные умы были опалены кострами Святой
Инквизиции, а разнородные и анархические души несли на себе
отсвет высокого огня своей духовной морфологии. Брат мой, как я
уже говорил, обладал неодолимой задумчивостью уникального
свойства, неспособной к изменчивости, гнетущей самое себя. Я же,
по контрасту, был полиморфным искажением, живучим и анархическим.
Все мои сознательные действия выражались в чревоугодии, и все мое
чревоугодие становилось сознательным действием. Все меня видоизм-
еняло, ничто меня не изменило. Я был вялым, трусливым и
противным. В суровости испанской мысли моя натура искала высшее
проявление полнокровных, изощренных и прихотливых кристаллов сво-
его неповторимого гения. Родители окрестили меня Сальвадором, как
и брата. И - по значению имени - мне было предназначено ни много
ни мало как спасти Живопись от небытия модернизма, и это в эпоху
катастроф, в той механической и обыденной вселенной, где мы, к
счастью и несчастью, живем. Если бы я мог попасть в Прошлое,
Рафаэль и иже с ним казались бы мне истинными богами. Наверно, я
единственный, кто понял, почему сегодня невозможно приблизиться
хотя б ненамного к совершенству рафаэлевских форм. Мое
собственное творчество кажется мне большим несчастьем. Как бы я
хотел жить в эпоху, когда ничего не надо спасать! Но, возвращаясь
в Настоящее, почитаю благом, что, оценивая многих мастеров
гораздо выше себя, я тем не менее ни за что на свете не желал бы
поменяться местами ни с кем из живущих ныне.
В одиночку постичь и выразить смысл жизни значит сравниться с
великими титанами Возрождения. Такова моя жена Гала (Елена Дм-
итриевна Дьяконова, русская по происхождению-прим. пер.), которую
я обрел себе на счастье. Ее мимолетные движения, жесты, ее
выразительность - это все равно что вторая Новая Симфония: выдает
архитектонические контуры совершенной души, кристаллизующиеся в
благодати самого тела, в аромате кожи, в сверкающей морской пене
ее жизни. Выражая изысканное дыхание чувств, пластика и
выразительность материализуются в безукоризненной архитектуре из
плоти и крови.
Когда Гала отдыхает, могу сказать, что она равна своей
грацией часовне Темпьетто ди Браманти, что близ собора Святого
Петра Монтозио в Риме. И как Стендаль в Ватикане, я позже и
независимо от него могу поставить на одну доску стройные колонны
с ее гордостью, нежные и упорные перила с ее детскостью,
божественные ступени с ее улыбкой. Долгими часами перед
мольбертом, украдкой любуясь ею, когда она этого не замечала, я
твердил себе, что она такое же прекрасное полотно, как работы
Вермеера и Рафаэля. Тогда как другие, кто нас окружает, кажутся
всегда .так мало прорисованными, так посредственно отделанными,
что похожи скорее на гнусные карикатуры, намалеванные на скорую
руку голодным художником на террасе кафе.
В семь лет я желал быть Наполеоном... Вот как это произошло.
На втором этаже нашего дома жили аргентинцы Mammaс. Одна из
дочерей этой семьи, сказочной красоты Урсулина Mammaс, по слухам,
стала Каталонкой 1900 года, и еще поговаривали, что образ Катал-
ани списал с нее Эухенио (д'Орс в своей книге "Ла Вен плантада"
("Дивно сложенная"). И мой седьмой год начался с того, что меня
захватила либидо-светская привлекательность второго этажа. В
теплые летние сумерки я подолгу торчал на террасе, пока еле
слышимый шорох вверху не подсказывал, что надо мной отворяется
балконная дверь. На втором этаже меня обожали так же, как и у
нас. К шести вечера вокруг монументального стола в салоне, на
котором высилось чучело аиста, собирались пить матэ
очаровательные пышноволосые особы с аргентинским акцентом. Матэ
подавали в большом серебряном сосуде, который передавали от губ к
губам. Эта тесная близость ртов особо волновала и рождала в душе
целый вихрь страстей, в котором уже посверкивали острые шипы
ревности.
В свой черед и я тянул сладкую жидкость, на мой вкус, слаще
меда, а мед - слаще крови. Ведь моя мама, моя кровь, всегда
бывала тут же. Мое светское становление, таким образом, было
триумфальным шествием от губ к губам, ото рта ко рту, и я желал
испить чашу Наполеона, ибо Император также пребывал в салоне
второго этажа, ну если не собственной персоной, то уж во всяком
случае тут присутствовало его цветное изображение на боку
небольшого деревянного бочонка, в котором держали матэ. Этот
Наполеон, олимпийски важный, с белым и сытым брюшком, с розовыми
мясистыми императорскими щечками, в черной шляпе, точь-в-точь
соответствовал моим представлениям о том, каким бы монархом был я
сам.
Тогда в моде была песенка.
Napoleon en el final
De un ramillette colossal
Это изображение Наполеона на боку бочонка овладело моим
воображением - столь же нестойким, как яичный желток на блюдце,
(разве что без блюдца). И под воздействием питейного Наполеона
через посредство матэ произошел резкий скачок моих притязаний от
повара до императора. Точно также мои первые эротические ощущения
женщин-лошадей, галопировавших по .нашей кухне, были незаметно
вытеснены светлым образом прелестной Урсулы Mammaс, красотки
образца 1900 года. Позже я объясню и опишу со скрупулезностью
"думающей машины" мои открытия. Одно из них, в частности,
основано на идее питейного Наполеона, в которой материально
воплотилось два призрака моего раннего детства. навязчивый бред
губ (ртов) и слепой духовный империализм. Это объясняет, почему
пятьдесят чашек теплого молока, поставленные на качающийся стул,
для меня то же самое, что и пухлые ляжки Наполеона - и до какой
степени это верно для всего на свете. Не надо быть сумашедшим,
чтобы суметь представить такое! Выразилось это и в других вещах,
не менее странных и еще более неоспоримых в свете этой
сенсационной книги. Во всяком случае, достоверно: все, абсолютно
все, о чем я говорю здесь, целиком мой грех и единственный мой
грех.