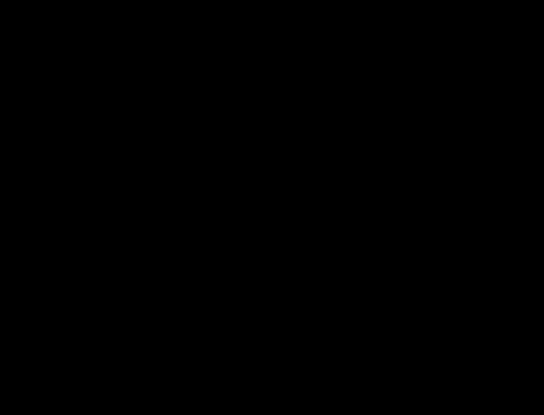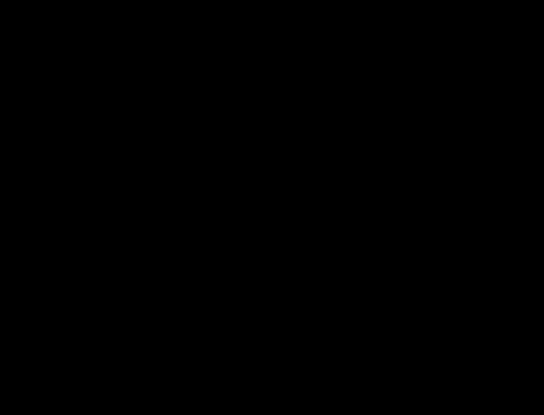Глава тринадцатая
Метаморфозы - Смерть- Возрождение
/Дин-дон, дин-дон...
Что это?
Это бьют башенные часы Истории.
О чем они звонят, эти башенные час, а, Гала?
Через четверть часа после "измов" пробьет час индивидуумов.
Вот твое время, Сальвадор (весь послевоенный период отличается
рождением "измов": кубизм, дадаизм, симультанизм, пуризм,
вибрационизм, орфизм, футуризм, сюрреализм, коммунизм, и между
прочим, национал-социализм. У каждого "изма" был свой лидер, свои
сторонники и герои. Каждый претендовал на истинность, но
единственная доказанная "истина": от всех этих "измов", так скоро
забытых, остается - среди их анахронических развалин - несколько
настоящих художников-индивидуумов.).
Послевоенная Европа готова разродиться "измами", их хаосом,
анархией, отсутствием четкости в политике, эстетике, морали.
Европа разродилась скепсисом, произволом, бесхребетностью,
отсутствием формы, синтеза и Веры. Ибо она уже вкусила от
запретного плода, возомнила, что все знает и доверилась безличной
лени всего, чем является "коллектив". Наш коллектив - это то, что
мы съели и переварили. Европа вкусила "измов" и революции. У ее
дерьма цвет войны и запах гибели. Она забыла, что счастье - штука
личная и субъективная и что ее несчастная цивилизация, под
предлогом уничтожения всякого сорта принуждения, оказалась в
рабстве собственной свободы. Карл Маркс писал: "Религия - опиум
народа". Но Истории предстояло вскоре доказать, что материализм
отравлен самым концентрированным ядом ненависти, и народы
погибнут, задохнувшись в грязных метро, среди вони, под бомбами
современной жизни (Марксизм также несет ответственность за русск-
ий большевизм и за немецкий национал-социализм, который был
лирический, сентиментальной реакцией против коммунизма, но был
искажен тем же исконным пороком - механическим и антикатолическим
коллективизмом).
Гала пыталась заинтересовать меня путешествием в Италию.
Архитектура Возрождения, Паладиум и Браманте - вот все
совершенное и непревзойденное в эстетическом направлении, чего
достиг человеческий разум. У меня было желание увидеть и
прикоснуться к этим живым воплощениям гениальности. Гала начала
также строить второй этаж в нашем доме в Порт-Льигате, видя в
этом другое средство привлечь мое внимание к внешнему миру,
рассеять мой страх, заставить меня снова поверить в себя.
- Невозможно, - отвечал я, - научиться, как в старину.
Техника ныне совсем исчезла. У меня даже нет времени научиться
рисовать так, как рисовали когда-то. Никогда мне не достичь
техники Бёклина.
Но Гала без устали приводила мне тысячи примеров и док-
азательств, вселяя в меня вдохновение и уверенность, что я
представляю собой больше, нежели просто "самого знаменитого
сюрреалиста", каким я был. Мы до изнеможения восхищались
репродукциями творений Рафаэля. У него все было доведено до
такого глобального синтеза, какой и не снился нашим современник-
ам. Послевоенная анаметрическая близорукость разложила всякое
"классическое творение" на ряд отдельных элементов, в ущерб
целому.
Война превратила людей в дикарей. Их чувствительность
ослабла. Замечали лишь преувеличенное или из ряда вон выходящее.
После изобретения динамита все, что не взрывается, оставалось
незамеченным. Метафизическую меланхолию перспективы воспринимали
лишь через схематичные памфлеты какого-то Кирико, тогда как
хватило бы одного взгляда на Рафаэля, Перуджино, Пьеро де ла
Франческа. Что еще нужно было изобретать, когда жил уже Вермеер
Делфтский с его оптической гипер-ясностью, превосходящей своей
объективной поэтичностью и оригинальностью гигантский
метафорический труд - всех поэтов, вместе взятых! Классическое
творение все использует и объединяет, это иерархическая сумма
всех ценностей. Классика значит интеграция, синтез, космогония
вместо раздробленности, экспериментаторства и скепсиса. Речь не
идет о вечном неоклассическом или неотомистском "возвращении к
традиции", которое мало-помалу появлялось из мусора и гадости
"измов". Наоборот, это было агрессивное подтверждение моего опыта
"завоевания безумия" и веры, которую вселила в меня Гала.
Эти идеи я собирался изложить на конференции, на которую меня
пригласили в Барселоне. Перед отъездом из Порт-Льигата мы выпили
по стакану сухого вина с каменщиками и кровельщиками, которые
достраивали крышу нашего дома. Они хотели поговорить о политике.
- Среди самых стоящих вещей, - толковал один, - самая стоящая
- это анархия, то есть анархистский коммунизм. Это прекрасная,
но, как ни жалко, практически не осуществимая вещь. С меня
хватило бы и либерального социализма с кое-какими изменениями по
моему вкусу.
-Единственное, что мне по нраву, - говорил другой,-это полная
свобода любви. Все беды от того, что мы не занимаемся любовью
сколько хочется.
-А по мне, - рассуждал третий, - лучше всего профсоюзы без
всякой политики, и я ради этого пойду на все, даже переверну
трамваи, что мне уже приходилось делать.
- Ни то, ни другое, - утверждал четвертый, - единственный
выход - коммунизм и сталинизм.
- Я, конечно, согласен с коммунизмом, - отвечал пятый, - но
вот с каким именно, есть разница, ведь существуют пять
разновидностей, не считая настоящего. Сталинисты, во всяком
случае, доказали, что умеют убивать добрых людей не хуже
фашистов.
Проблему троцкизма затрагивали все, но не с такой остротой,
как во время гражданский войны. Для всех этих людей важнее всего
было сначала совершить революцию. Старший каменщик, мастер,
который до сих пор помалкивал, подвел итог:
- Хотите, скажу вам, чем все это кончится? Военной
диктатурой, которая всех нас скрутит так, что ни вздохнем ни
охнем...
Приехав в Барселону, мы поняли, что обстановка накаляется.
Повсюду взрывались бомбы F.A.I. После обеда объявили всеобщую
забастовку, и город приобрел унылый вид. Старый торговец
картинами Далмо, который был в Барселоне пропагандистом соврем-
енного искусства и организовал в этот день мою конференцию,
постучал в дверь нашего номера на улице Кармен ровно в пять
часов.
-Войдите!-крикнул я.
Никогда не забуду внезапного появления Далмо, задыхавшегося,
с взъерошенной бородой, растрепанными волосами. Он, наверно,
хотел сообщить нам что-то срочное, но пока стоял, задыхаясь, на
пороге. Его ширинка была широко расстегнута, а в нее он сунул
журнал, который я просил купить для меня. На обложке можно было
прочесть: "Сюрреалистическая революция". После короткой передышк-
и, наслаждаясь эффектом своего неожиданного появления, он
предупредил нас:
- Уносите ноги. Барселону вот-вот начнут отбивать.
Всю вторую половину дня мы провели в поисках шофера, который
отвез бы нас к границе, и прошли все формальности, необходимые
для получения водительских прав.
На улицах вооружался народ. Группы мятежников сталкивались с
конной национальной гвардией, которая делала вид, что не замечает
их. В министерстве Говернасион я ждал пропуска два часа. Время от
времени там переставали печатать и ставили на окно пулемет. Из
каталонских флагов женщины шили носилки для раненых. Пролетел
слух, что к вечеру в Кампанисе объявят каталонскую республику.
Каждую минуту на Барселону, если армия начнет операцию, мог
обрушиться град выстрелов. В ожидании своих бумаг я увидел в бюро
двух лидеров каталонского сепаратизма, братьев Бадиа. Они напом-
инали парочку Бастеров Китонов своими порывистыми трагическими
жестами и бледностью, предвещающей смерть. И в самом деле, через
несколько дней анархисты убили их.
Получив водительские права, я снова встретился с Далмо,
который за астрономическую сумму раздобыл для нас водителя и
автомобиль. Гала, Далмо, шофер-анархист и я заперлись в туалете,
чтобы договориться о плате за дорогу.
- Я все предусмотрел, - сказал нам этот человек, вынимая из
кармана каталонский флаг. - Это для дороги туда.
Потом, вытащив из другого кармана небольшой испанский флаг,
добавил:
- А это для обратной дороги. Ведь совершенно точно регулярные
войска подавят мятеж. Впрочем, какое до этого дело нам,
анархистам? Пусть Испания и Каталония сводят счеты. Наш час еще
не пробил. Вы слышите взрывы? Это наши разминаются. Любые жертвы
сейчас работают на нас. Но это пока все. Еще не настал день
большого котла (расхожее каталонское выражение, означающее
революцию и беспорядки вообще)...
Мы выехали. Путь, на который обычно требовалось часа четыре,
на этот раз растянулся втрое. Нас постоянно останавливали
вооруженные группы людей и требовали пропуск. Большинство
мятежников были опасно пьяны. И если мы ехали дальше, то только
благодаря убедительному красноречию своего шофера-анархиста. На
полдороге мы остановились заправиться бензином в деревушке на
берегу моря. Под большим "enlevat" (большой тент, роскошно
украшенный для деревенских праздников). импровизированный оркестр
играл "Голубой Дунай". Девушки гуляли в обнимку с парнями. На
белой от пыли дороге была опрокинута бочка темно-красного вина. В
открытых дверях кафе два человека средних лет играли в пинг-понг.
Наполнив бак бензином, шофер сказал нам:
- Извините, но мне перед дорогой нужно полить маслины (эвфем-
изм вместо "мне нужно помочиться).
Он скрылся в кафе и вскоре вернулся, одной рукой застегивая
ширинку, а другой утирая подбородок после стакана анисовой.
Отскочил пинг-понговый шарик, наш шофер подобрал его и, обм-
енявшись с одним из игроков неловкими ударами, вернулся к нам.
-Надо торопиться,-сказал он. -По радио сообщили, что в Камп-
анисе провозгласили Каталонскую республику и на улицах Барселоны
уже сражаются.
Оркестр под тентом завел "Голубой Дунай" в третий раз. Все
вокруг казалось спокойным и привычным, кроме вооруженной группы
людей, которые стояли рядом с нашим автомобилем и громко, чтобы
мы их слышали, обсуждали вопрос, стоит нас расстреливать или нет.
Во всяком случае, они сочли вызывающим качество наших с Гала
чемоданов. Но наш шофер, устав дожидаться решения, разразился
такими проклятиями, что они уважительно удалились.
На другой день мы проснулись в маленьком отеле приграничного
вокзала Сербер во Франции. Газеты извещали, что мятеж подавлен, а
его предводители убиты или взяты в плен. Каталонская республика
продержалась всего несколько часов. Мы только что пережили
историческую ночь 6 октября - и с тех пор я представляю
историческую ночь не иначе как нелепую, когда вас могут
расстрелять из-за одного "да" или "нет", когда играют в пинг-понг
и кабацкий оркестр наяривает "Голубой Дунай". Далмо написал нам в
Париж, что наш шофер, возвращаясь, был убит пулеметной очередью в
окрестностях Барселоны.
У меня решительно не было исторической жилки, исторического
духа. Чем дальше развивались события, тем больше я чувствовал
себя аполитичным противником Истории. Я был впереди и слишком
позади, но никак не современником игроков в пинг-понг. Меня
преследовало предчувствие гражданской войны. Вернувшись, я
написал картину под названием "Предчувствие гражданской войны", в
которой изобразил огромное человеческое тело, с множеством рук и
ног, душащих друг друга в бреду.
Первое известие о гражданской войне застигло меня в Лондоне
на ужине в "Савойе". Я заказал крутые яйца, напомнившие мне
шарики пинг-понга в деревушке на побережье. Игроки и их шарики не
переставали занимать меня. Я сказал моему соседу Игорю Марковичу:
сколь плачевно было бы играть в пинг-понг крутыми яйцами, даже
хуже, нежели играть в теннис мертвыми птицами. Яйца мне
отомстили: они скрипели на зубах, будто были приправлены песком.
Повар "Савойи" был ни при чем. Это африканский песок мятежной
Испании взметнулся у меня во рту. Было лишь одно средство
избавиться от него - залить его шампанским!
Однако я не выпил ни капли. У меня начался период строгости и
аскетизма, которому предстояло стать доминантой в моем стиле,
моем разуме и моей неуравновешенной жизни. Пламя Испании озарит
драму эстетического Возрождения. Она станет жертвой послевоенной
Европы, терзаемой идейными драмами, нравственными и
художественными невзгодами. Испанские анархисты бросались в огонь
под стягом: "Viva la muerte!" - "Да здравствует смерть!", тогда
как их противники держались традиционного флага, на котором нужно
было только изобразить две буквы: FE(Вера.). С первого взгляда из
середины испанского трупа бросался в глаза наполовину изъеденный
паразитами и идейными червями иберийский член в эрекции,
огромный, как собор, наполненный белыми динамитом ненависти,
происходящей от непрерывных закапываний и откапываний. Зарыть и
отрыть! Чтобы снова зарыть и отрыть!
Таким было плотское желание гражданской войны в нетерпеливой
Испании. Предстояло увидеть, как она станет страдать, заставит
страдать, закапывать и откапывать, убивать и вызывать
сострадание. Надо было грызть землю, чтобы отрыть традицию и все
клады, спрятанные в недрах страны. Отрывая любовников Теруэля,
воскрешали бы плоть, и любили бы, убивая друг друга. Однажды
ополченец войдет в кафе, неся мощи монахини XII века. Он не
захочет бросить их и унесет с собой в окопы. Один из моих старых
друзей видел отрытое тело Гауди - его обвязали веревкой за шею и
волочили по барселонским улицам, притом, добавлял мой друг, тело
издавало довольно приятный запах и хорошо сохранилось, хотя, тем
не менее, попало в печальную переделку. В этом, в сущности, нет
ничего удивительного: ведь Гауди был мертв уже двадцать лет. В
Виче солдаты полдня играли головой архиепископа...
Из растерзанной Испании исходил запах дыма, сожженного мяса
кюре, разодранной разумной плоти, смешиваясь с крепким запахом
пота толпы, развращенной самой собой и Смертью. Анархисты
переживали мечту, в которую они никогда бы не поверили. Они
входили в контору нотариуса и испражнялись на стол. Во многих
селениях установили анархический коммунизм и сожгли банковские
счета.
Гражданская война не изменила ни хода моих мыслей, ни
состояния духа. Она лишь вбила в меня еще сильнее страх любой
революции. Мне не хотелось быть и "реакционером", ибо я
реагировал иначе, чем инертная масса. Мне хотелось оставаться
Дали. Вокруг завывала гиена общественного мнения и требовала,
чтобы я высказался: гитлерист я или сталинист? Нет, тысячу раз
нет, я был далинистом и ничем кроме далиниста. До самой смерти! Я
не верил ни в какую революцию. Я верил лишь в высочайшую
традицию. Если революция зачем-то нужна, то лишь для того, чтобы
после ее конвульсий заново обрести утраченные элементы традиции.
Нужно было пройти через гражданскую войну, чтобы вновь обрести
католическую традицию, свойственную Испании. Все сражались
отважно, воодушевленные Верой, - и атеисты, и верующие, и святые,
и преступники, и отрыватели, и зарыватели, и палачи, и мученики.
Ибо все они были испанцами, этой расой аристократов среди других
народов(Лишь одни профессиональные политики были выше всего.
Предав самих себя, они предали и дело демократии. С самого начала
они стали рабами революции, и их слабость и малодушие служили
лишь тому, чтобы придать преступлениям видимость законности в
глазах международных правозащитников, нередко крайне наивных.).
В самом начале войны мой большой друг поэт "la mala muerte"
Федерико Гарсиа Лорка погиб, расстрелянный в оккупированной
франкистами Гранаде. Красные тут же жадно ухватились за это
ужасное событие, чтобы использовать его в спекулятивных целях.
Какой позор! Лорка, потрясающий поэт, был самым аполитичным на
земле. Он погиб - и это символично - как искупительная жертва
революционной неразберихи. Эти три года убивали не из-за идей.
Убивали по личным причинам - по причинам личности. Как и я, Лорка
был известен всем и каждому, и этого было достаточно, чтобы любой
испанец расстрелял его раньше всех остальных.
Его смерть и отзвуки гражданской войны, докатившиеся до
Парижа, заставили меня на время уехать из Франции. Я уехал в
Италию, и пока моя партия расспрашивала о смерти и разрушениях, я
вопрошал сфинкса грядущего, сфинкса Возрождения.
Мое путешествие в Италию было нелепо расценено в моем кругу
как пример легкомыслия. Лишь несколько ближайших друзей
догадались, что во время этого путешествия мой дух был занят
самыми трудными и решающими битвами. Я бродил по Риму с книгой
Стендаля в руке, возмущаясь вместе со Стендалем той заурядностью
современного Рима, в какую выродился город Цезаря. Урбанистичекие
потребности нового города уничтожали святой миф Рима всех времен,
живого и естественного. Недавно открыли длинный современный
проспект к Ватикану. И вместо того, чтобы пройти лабиринтом тихих
улочек и выйти прямо к его внушительным пропорциям, поражающим
сердце, сейчас его можно было увидеть за четверть часа, как будто
он был замыслен жалким умишком архитектора международной выставк-
и.
В Риме я провел длительный сезон, приглашенный к поэту
Эдварду Джеймсу, рядом с садом, в котором, кажется, Вагнер и был
вдохновлен своим "Парсифалем". Я же думал о моем призрачном
"Безумном Тристане". Затем я переехал на Римский Форум к лорду
Барнерсу, где провел два месяца и написал "Африканские
впечатления" - о короткой поездке в Сицилию, которая немного
напоминала мне мою Каталонию и Африку. В Риме я вел совершенно не
светскую жизнь. Мы с Гала почти все время были одни. Я виделся
только с немногими английскими друзьями. В это время по Италии
путешествовала Грета Гарбо в сопровождении Леопольда Стоковского,
и однажды вечером я встретил ее одну в этрусском музее на вилле
папы Джулио. Меня поразила ее неэлегантность, а измятое манто
говорило о полном отсутствии кокетства. Мы не были с ней знакомы,
и я не поздоровался с ней. Как вдруг она первая так приветливо
улыбнулась мне, что я поклонился, а потом продолжил осматривать
музей. Едва выйдя оттуда, я заметил, что она следует за мной. Я
нарочно прибегнул к двум-трем хитрым уловкам и снова заметил ее в
нескольких шагах от себя. Невероятность ситуации показалась мне
крайне комичной. Убегать от нее или догонять ее? В это время
толпа устремилась к площади Венеции, где произносил речь
Муссолини. Окруженные людским водоворотом, мы вскоре не могли
двинуться ни вперед, ни назад. Дуче на балконе заканчивал речь, и
толпа устроила ему овацию. Меня чрезвычайно удивило, с каким
энтузиазмом Гарбо вскидывает руку в фашистском приветствии. Она
посмотрела на меня с упреком: почему я не вскидываю руку и не
делаю фотографии. Наконец в толпе образовалось место, и она
подошла ко мне на расстояние в метр, остановленная цепью пузатых
римлян. Гарбо сделала мне знак, значения которого я не понял,
вынула открытки и показала их мне в протянутых руках. В этом было
что-то ненормальное и страшное. Открытки были с классическими
видами Рима. Держа их веером, она показывала их мне одну за
другой. И вдруг... Я был потрясен. Среди видов вечного города я
заметил порнографический снимок. Затем другой... И вот она уже
закрыла пачку элегантным и стыдливым жестом с видом невинного
притворства. Невозможно в это поверить! Я пристально посмотрел ей
в глаза и все вдруг понял. Грета Гарбо существовала лишь в моем
воображении. Я был введен в заблуждение. И даже физическое
сходство со звездой было весьма отдаленным. Эта женщина была
натурщицей, приятельницей одной из моих моделей. Она слышала от
подруги, что я коллекционирую эротические рисунки(В Таормине я
приобрел набор прекрасных фотографий, которые развесил по стенам
мастерской.). Затем встретив меня в музее и узнав, она решила
предложить мне свою коллекцию и последовала за мной.
Как можно было так ошибиться? Это меня насторожило. Что-то не
ладится у меня в голове. В последнее время я делаю ошибку за
ошибкой. Гала считала, что я живу слишком замкнуто, и увезла меня
в горы, в отель Тре Крочи, неподалеку от Кортина, рядом с
австрийской границей. Оттуда на две недели она отправилась в
Париж и оставила меня одного.
Там я получил плохие новости из Кадакеса. Анархисты
расстреляли человек тридцать моих друзей и среди них трех рыбаков
из Порт-Льигата. Должен ли я возвращаться в Испанию, чтобы меня
постигла та же участь? Я не выходил из своей комнаты, боясь
разболеться до возвращения Гала. К тому же высокие горы мне
никогда не нравились, и вершины, окружающие Тре Крочи со всех
сторон, стали для меня настоящим наваждением. Может быть, надо
было поехать в Испанию! Но если уж ехать туда, то совершенно
здоровым, чтобы обладать максимальной жизнеспособностью во время
этого жертвоприношения. В заботе о себе я дошел до панической ак-
куратности. При малейшем насморке я торопился закапать в нос
капли. Целыми днями я делал полоскания. Беспокоился при малейшем
подозрении на прыщик или экзему и немедленно мазался мазью. Я
плохо спал в ожидании болезни, то и дело щупал аппендикс - нет ли
воспаления. С колотящимся сердцем, тщательнейше исследовал свой
стул и ходил в туалет с точностью башенных часов. Вот уже шесть
дней мне озадачивала большая сопля, налипшая на белой плитке
стены. Весь остальной туалет блистал чистотой. Меня беспокоила
только эта сопля. Сперва я притворялся, что не замечаю ее, глядел
в сторону, но она все больше притягивала мое внимание. Эта сопля
решительно была эксгибиционисткой. Она висела на плитке как-то
кокетливо, если можно-так выразиться, и не увидеть ее было
невозможно. Впрочем, это была чистая сопля, дивного серо-
жемчужного цвета, с зеленоватым оттенком, более темная посредине.
Она увенчивалась острием и торчала на стене, как бы требуя
чьего-то вмешательства. Прошло шесть дней, и я больше не мог
сопротивляться своей навязчивой идее. На седьмой день я перешел к
действиям. Сопля отравляла мне все удовольствие от сидения в
туалете. Набравшись храбрости, я обернул указательный палец шел-
ковой бумагой и, сделав усилие, попытался сорвать соплю. Страшная
боль пронизала мой палец. Твердая, как игла, сопля проникла до
самой кости. У меня потекла кровь, а от боли выступили слезы. У
себя в комнате я хотел продезинфицировать рану перекисью во-
дорода, но - о ужас! - кусочек сопли вонзился мне под ноготь и я
не мог его вынуть. Боль стихла, сменилась покалыванием.
Начинается воспаление! Бледный, как смерть, я спустился в
столовую и рассказал все метрдотелю. С самого моего приезда этот
человек выражал всяческую почтительность, но я так дерзко отвечал
ему, что он не продолжил своих попыток. Теперь, увидев меня в
таком плачевном положении, он рассыпался в любезностях. И захотел
взглянуть на мой палец поближе.
- Не трогайте его, - сказал я. - Смотрите, но не трогайте.
Это что-то серьезное?
- Похоже, вошло глубоко, - ответил он, - но что это? Заноза?
Иголка?
Я не ответил. Да и как ответишь? Я не мог раскрыть ему, что
эта темная точка была соплей. Только с Сальвадором Дали может
случиться такое. Какая-то сопля вонзилась в кожу - вот рука сине-
ет, и ее надо будет отрезать, прежде чем столбняк поразит все
тело!
Я вернулся к себе в комнату и лег, полный самого черного
отчаяния. Никакие пытки гражданской войны никогда не сравнятся с
воображаемыми муками, которые я перенес в этот день. Я
представлял себе свою отрезанную руку. Что с ней сделают? Есть ли
в мире гробы для руки? Нужно ли ее сразу похоронить? Я жить не
могу с мыслью, что моя отрезанная рука будет гнить в какой-то
коробке. Весь в поту от этого безумного бреда, я встал и побежал
в туалет, там встал на колени и нашел остатки сопли. Я вним-
ательнейшим образом рассмотрел их. Но нет! То была не сопля.
Всего лишь кусок засохшего клея, упавший, конечно, когда
покрывали плиткой стену.
Мой страх сразу же рассеялся, и я сумел вытащить из-под ногтя
глубоко вонзившийся кусочек. И тут же уснул мертвым сном.
Проснувшись, я знал, что в Испанию не поеду. Теперь я оттуда
возвращался. Как Ессент, герой Гюисманса, который перед своей
поездкой в Лондон так живо представил себе все путешествие, что
ему не надо было туда отправляться, так и я только что пережил
все ужасы гражданской войны. Лишь существам без воображения нужно
совершать кругосветное путешествие или дожидаться европейской во-
йны, чтобы получить представление об аде. Мне же было достаточно
остаться здесь и пережить случай с соплей, к тому же еще и
фальшивой.