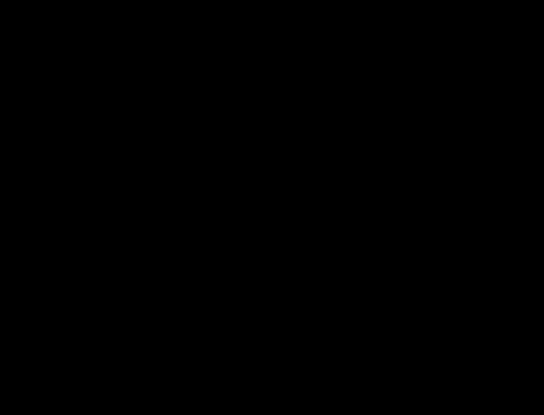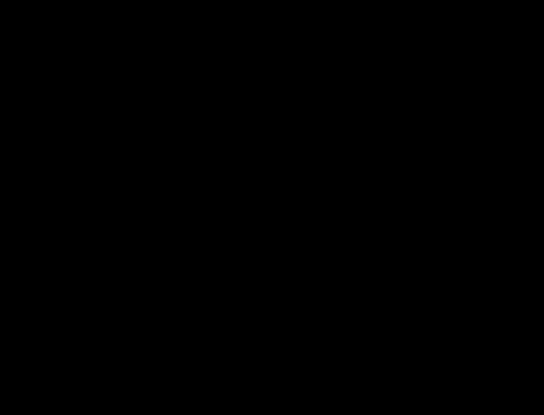Глава четвертая
ЛОЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА
Мне исполнилось семь лет, и отец решил отдать меня в школу.
Он вынужден был применить силу и потащить меня за руку. Я заорал
и закатил такой скандал, что все торговцы бросились из-за
прилавков поглазеть на нас. Родителям удалось научить меня двум
вещам: я знал алфавит и умел писать свое имя. Через год учения в
школе они обнаружили, что я полностью забыл эти азы. И не по
своей вине. Просто мой учитель весь учебный год приходил в класс
только затем, чтобы поспать. Звали его г-н Траитер, что по-к-
аталонски означает "омлет". Это был поистине фантастический
персонаж; концы его седой раздвоенной бороды были так длинны, что
спускались ниже колен, когда он садился. Борода цвета слоновой
кости вечно была в желтых и рыжих пятнах - такими бывают пальцы
курильщиков, а иной раз клавиши пианино, хотя пианино не курит.
Г-н Траитер тоже не курил. Это помешало бы ему спать. Но,
ненадолго пробуждаясь, он нюхал чрезвычайно крепкий табак, от
которого оглушительно чихал в огромный, весь в охряных пятнах,
носовой платок, который он очень редко менял.
Г-н Траитер был похож на помесь Толстого и Леонардо. Плохо
одетый, дурно пахнущий, он к тому же носил цилиндр - редчайшую в
наших краях вещь. Однако его спасала репутация умного человека.
По воскресеньям он совершал вылазки и возвращался на повозке,
битком набитой готическими фигурками и рельефами, которые он
выкрадывал из церквей или скупал за бесценок. Однажды, обнаружив
в нише колокольни античный рельеф, он был под таким впечатлением,
что решился отбить его ночью. Но рельеф был одним целым со стеной
- и колокольня обрушилась, а два колокола упали на соседний дом,
пробили крышу, всполошили жившую там семью и подняли на ноги всю
округу. Г-н Траитер едва унес ноги, сопровождаемый градом камней.
Этот случай взбудоражил жителей Фигераса, но послужил лишь к
вящей славе учителя, прослывшего отныне жертвой любви к
Искусству. В результате своих поисков г-н Траитер выстроил в
предместье довольно безвкусную виллу и захламил ее всеми
сокровищами, накопленными в обобранном им крае.
Почему отец выбрал для меня школу с таким чудаком учителем,
как г-н Траитер? Мой отец был одним из вольных каталонских
мыслителей, сыном чувствительной Барселоны, членом хора Хосе
Ансельмо Клаве, фанатиком процесса Феррера. И он был
принципиально против обучения в школе Братьев, куда я должен был
бы поступить по своему происхождению. Он решил, что я должен
учиться в общей школе, и это было воспринято как эксцентричность.
Никому не было известно о способностях г-на Траитера - ибо никто,
кроме бедняков, не доверял ему своих детей. Таким образом, я
провел первый учебный год с самыми бедными детьми Фигераса, и это
развило мою естественную склонность к мании величия. Мог я разве
не думать о себе как об исключительном, бесценном и утонченном
существе, будучи богачом среди окружавших меня бедняков? Я
единственный приносил с собой горячий шоколад в термосе, на чехле
которого были вышиты мои инициалы. Стоило мне слегка поцарапаться
- и мне тут же перевязывали палец или колено чистым бинтом. Я
носил матросский костюмчик, расшитый золотом на манжетах. Мои
тщательно расчесанные волосы были всегда надушены - и
простодушные дети поочередно подходили ко мне, чтобы понюхать мою
голову. Я единственный носил начищенные ботинки, а случалось мне
потерять с них серебряную пуговицу - и мои босоногие соученики
дрались до крови, лишь бы завладеть ею. Я не играл с ними и даже
не разговаривал. Впрочем, и для них я оставался настолько чужим,
что они настороженно подходили ко мне лишь затем, чтобы
полюбоваться носовым платком или новехонькой тростью из гибкого
бамбука с серебрянным набалдашником.
Чем я занимался целый год в этой нищей начальной школе?
Вокруг меня, одинокого и молчаливого, играли, дрались, орали,
плакали и смеялись жизнерадостные детишки. Как я был далек от
них, от владеющей ими потребности действовать! Я был им полной
противоположностью. И меня восхищали эти лукавые бестии, умеющие
чинить перья и мастерить фигурки из листка сложенной бумаги. Как
ловко они завязывали и развязывали шнурки на своих паршивых башм-
аках! А я... я мог провести взаперти весь день лишь потому, что
не мог справиться с дверной ручкой. Я терялся в любом, даже
знакомом доме. Мне никогда не удавалось самому снять матросскую
курточку, а любые попытки сделать это были связаны с риском
погибнуть от удушья. Какие бы то ни было практические действия
были мне чужды - и приметы внешнего мира все больше пугали меня.
Г-н Траитер вел все более растительный образ жизни, почти не
просыпаясь. Казалось, сны укачивают его, то как легкую тростинку,
то как тяжелый ствол дуба. Краткие пробуждения позволяли ему
сделать понюшку табаку, чихнуть и дернуть за ухо сорванца,
нарушившего его сон. Итак, что же я делал весь этот пустой год?
Только одно, но очень пылко - я сочинял "ложные воспоминания".
Разница между ними и подлинными такова же, как между фальшивыми и
настоящими бриллиантами: фальшивые выглядят более естественно и
ярче сверкают. Уже тогда я любил ностальгически вспоминать
действо, которого на самом деле не было. Якобы я наблюдаю, как
купают голенького младенца. Меня не интересует, мальчик это или
девочка, я смотрю на ягодицу, где в дыре величиной с апельсин так
и кишат муравьи. Малыша вертят из стороны в сторону, на миг
укладывают на спину, и я думаю - муравьев вот-вот раздавят. Но
ребенок вновь на ножках - и муравьев больше не видно. И дыра
исчезла. Мне трудно определить дату появления этого ложного
воспоминания, но оно из самых ярких.
С семи до восьми лет я жил во власти мечтаний и грез. Позднее
я так и не смог отделить подлинное от воображаемого. Моя память
так смешала реальность и вымысел, что лишь сейчас, объективно
оценивая события, я могу понять, насколько абсурдны некоторые из
них. К примеру, одно воспоминание связано с Россией - и я знаю,
что оно ложное, поскольку никогда не бывал в этой стране.
Первые представления о России связаны для меня с г-ном
Траитером. После так называемых уроков наш учитель приводил меня
иногда к себе домой. Это место долго оставалось в моей памяти
страшно загадочным. Должно быть, это странное жилье походило на
кабинет Фауста. На полках огромной библиотеки вперемешку с
толстыми пыльными томами было немало таинственных и причудливых
вещиц, возбуждавших мое любопытство и будивших воображение. Г-н
Траитер сажал меня к себе на колени и неуклюже трепал по
подбородку большим и указательным пальцами руки, которая цветом,
запахом и сморщенностью напоминала увялившийся на солнце и слегка
подгнивший картофель. (В это же время в России, в Ясной Поляне,
другое дитя. Гадючка, моя жена, сидела на коленях другого старца,
земного, кряжистого и задумчивого, - графа Льва Толстого.)
Г-н Траитер начинал всегда одной и той же фразой: "А теперь я
покажу тебе то, что ты еще не видел". Он ненадолго исчезал и
возвращался, еле удерживая на плечах огромные четки, которые с
адским грохотом волочились за -ним по полу. "Моя жена - да хранит
ее Бог! - добавлял он, - попросила меня привезти ей четки из
Святой Земли. Я купил ей эти, самые большие в мире, - они из
древесины с Масличной горы". И г-н Траитер улыбался в усы.
В другой раз он вынул из большой шкатулки красного дерева,
отделанной внутри гранатовым бархатом, красную блестящую
статуэтку Мефистофеля. Зажигая хитроумное устройство - трезубец,
воздетый сатаной, - он устраивал фейервейк до потолка, в сумраке
поглаживая бороду и отечески радуясь моему удивлению.
В его комнате на нитке висела высушенная лягушка. Он называл
ее "La meva pubilla" или "моя красавица" и то и дело повторял:
достаточно на нее взглянуть, чтобы узнать погоду. Положение
лягушки менялось изо дня в день. Это пугало, но и завораживало,
меня влекло к этому забавному существу. Кроме огромных четок,
Мефистофеля и лягушкибарометра, у г-на Траитера было без счету
незнакомых мне предметов, возможно, предназначенных для физическ-
их опытов, но я позабыл их, поскольку выглядели они слишком точно
и определенно. Однако самое сильное впечатление произвел на меня
оптический театр, которому я обязан самыми смелыми детскими
мечтами. Так мне никогда и не понять, на что он был похож: сцена
предстает в памяти как бы сквозь стереоскоп или радужный спектр.
Картины скользили передо мной одна за другой, подсвеченные
откуда-то сзади, - и эти движущиеся рисунки напоминали
гипнотические миражи, порожденные сном. Что ни говорио точности
воспоминаний, но именно в оптическом театре г-на Траитера я
впервые увидел поразивший меня силуэт русской девочки. Она
явилась мне, укутанная в белоснежные меха, в русской тройке, за
которой мчались волки с фосфоресцирующими глазами. Она смотрела
прямо мне в глаза с выражением горделивой скромности, и у меня
сжалось сердце. Выразительные ноздри и глаза делали ее похожей на
лесного зверька. По контрасту с их поразительной живостью черты
всего лица были гармоничны, как у рафаэлевской Мадонны. Гала? Я
знаю, это была уже она.
В театрике г-на Траитера мелькали также виды русских городов
со сверкающими на фоне горностаевых снегов куполами. Мне чудился
хруст снежка, блестящего, как все драгоценные огни Востока.
Видение далекой белой страны так отвечало моей потребности в
"абсолютной экзотике", что стало весомей и реальней, чем
расплывающиеся улочки Фигераса.
Идет снег. Я вижу это впервые. Фигерас и ближайшая к нему
деревушка видятся мне в идеальном снежном покрове, который, как
мне и хочется, погребает постылую реальность. Я ничему не
удивляюсь, и меня наполняет спокойный восторг, я предвкушаю
волнующие волшебные приключения, которые являются будто из только
что прерванного сна, как только начинаешь о нем рассказывать.
К утру снег перестает идти. И я отхожу от заиндевевщего окна,
к которому прилипал, расплющив нос о стекло, чтобы не пропустить
ничего интересного. Мама выводит нас с сестрой на прогулку.
Каждый шаг по хрусткому снегу кажется мне чудом, и мне жаль, что
другие уже запятнали этот безупречный снег, я хочу, чтобы он
принадлежал только мне.
Мы выходим из города, туда, где белизна еще не тронута.
Пройдя через парк, попадаем на поляну... и я замираю перед
снежным полем. Но тут же бегу на середину поляны, где лежит
крошечный коричневый шарик платана. Падая, он слегка раскололся,
так что в щелочку я могу разглядеть внутри желтый пушок. В этот
миг из-за туч выглядывает солнце и заливает светом всю картину:
шарик платана отбрасывает на снег голубую тень, а желтый пушок
словно загорается и оживает. Мои ослепленные глаза наполняются
слезами. Со всевозможными предосторожностями подойдя к разбитому
шарику, я подбираю его, нежно целую трещинку и говорю сестре: "Я
нашел карликовую обезьянку, но тебе не покажу". И чувствую, как
моя обезьянка шевельнулась в носовом платке!
Меня неудержимо тянет к заброшенному источнику, и я с
присущим мне тиранством требую продолжить прогулку именно к нему.
Неподалеку мама встречает знакомых и говорит мне: "Иди поиграй к
источнику, только будь осторожен. Я подожду тебя здесь".
Знакомые расчищают для мамы от снега каменную скамью. Но кам-
ень еще влажен, и я исподлобья смотрю на них, дерзнувших
предложить такое место моей маме, - она, по моему мнению,
заслуживает лучшего. Впрочем, мама отказывается сесть, сославшись
на то, что стоя она будет лучше видеть меня. Это меня утешает. Я
поднимаюсь по ступеням и сворачиваю направо к заброшенному
источнику. Она здесь! Она здесь, русская девочка из волшебного
театра г-на Траитера. Я назову ее Галючкой - уменьшительным им-
енем моей жены, так глубока моя вера, что вся долгая жизнь моей
любви связана с единым женским образом. Галючка здесь, рядом со
мной, сидит на скамье, как на тройке. И кажется, давно наблюдает
за мной. Я поворачиваю обратно, чувствуя, что от сильного
сердцебиения меня может вырвать. В моей руке, в носовом платке
шарик шевелится, как живой.
Мама, заметив, что я возвращаюсь в каком-то смущении, говорит
знакомым: "Видите, какой он капризный! Всю дорогу просил пойти к
заброшенному источнику, а когда мы здесь, передумал". Я отвечаю,
что забыл носовой платок. Но мама видит его у меня в руке. И я
добавляю:
- В этот платок я закутал мою обезьянку. Мне нужен другой -
вытирать нос.
Мама утирает мне лицо своим платком. И я снова ухожу. Но в
этот раз делаю крюк, чтобы подойти к источнику с другой стороны.
Так я смогу видеть Галючку со спины, оставаясь незамеченным. Мне
нужно пробраться через колючий кустарник, и мама кричит: "Все у
тебя не как у людей! Что, не можешь просто подняться по
лестнице?" Я ползу на четвереньках, и на вершине холма, как и
ожидал, вижу Галючку, сидящую ко мне спиной. Мне становится
спокойно - ведь я боялся не застать ее здесь. Мне кажется
странным, что ее спина неподвижна, но я не отступаю, а становлюсь
на колени в снег, прячась за стволом старой оливы. Время как
будто остановилось: я превратился в библейский соляной столб без
мыслей и чувств. Зато все отчетливо вижу и слышу. Какой-то
человек пришел наполнить кувшин, и слышу журчание льющейся и
проливающейся воды. Очарование исчезает. Остановившееся было
время вновь начинает бег. Вскочив на ноги, я чувствую, что
застенчивости как не бывало. У меня замерли и онемели коленки.
Непонятно откуда взялось чувство легкости - то ли от волнения, то
ли от открытия, что я влюблен, то ли от застывших коленок. Мной
овладевает отчетливая мысль: я хочу подойти и поцеловать Галючку
в затылок, но вместо этого достаю из кармана перочинный ножичек,
чтобы совсем очистить шарик от кожуры и подарить желтый пушок
Галючке.
И в эту же минуту обожаемая моя девочка встает и бежит к
колодцу, чтобы наполнить маленький кувшин. Я быстро кладу под
газету на скамье свой подарок. Весь дрожу от волнения - вернется
ли она и сядет ли на газету, под которой спрятан шарик? За мной
приходит мама: оказывается, она меня звала-звала, а я не слышал.
Она боится, чтобы я не простудился, и укутывает меня в большую
шаль. Ее тревожит, что, пытаясь заговорить, я начинаю стучать
зубами, и я тупо и покорно иду за ней, испытывая пронзительное
сожаление оттого, что ухожу.
История моего милого шарика лишь начинается. Запаситесь
терпением, и вы услышите рассказ об удивительных и драматичных
обстоятельствах моей новой встречи с этим талисманом. Игра стоит
свеч!
Снег растаял, а с ним исчезло волшебство преображенного
города и пейзажа.
Три дня я не ходил в школу. Продолжал грезить наяву.
Вернувшись в сонное царство г-на Траитера, я облегченно вздохнул
после всех треволнений. И в то же время возвращение к реальности
больно ранило меня. И рана эта зарубцовывалась медленно. Я был
безутешен, потеряв мой шарик - карликовую обезьянку. И находил
утешение, уставившись в потолок мерзкой школы. Пятна коричневой
плесени становились в моем воображении облаками, превращаясь
затем в определенные образы, постепенно обретавшие свое лицо.
День за днем я искал и восстанавливал картины, увиденные нак-
ануне, и совершенствовал свои видения. Как только они становились
чересчур реальными, я отказывался от них. Самое удивительное в
этом явлении (которое позже легло в основу моей будущей эстетики)
- по своему желанию я всегда мог восстановить любой образ, и не
только в той форме, в которой видел его в последний раз, но в
развитии и завершении, что происходило почти автоматически.
Галючкина тройка превращалась в панораму русского города с
куполами, затем в сонное бородатое лицо г-на Траитера, которое
сменялось жестокой схваткой голодных волков на поляне. Картины
мелькали у меня в голове, которая все, что происходило во мне,
как настоящий киноаппарат, проецировала в мои ослепшие глаза.
Как-то вечером, поглощенный своими видениями, я почувствовал
прикосновение чьих-то рук к своему плечу. Я подскочил,
поперхнулся слюной, и, побагровев, закашлялся. И тут же узнал в
мальчике, стоявшем рядом, Бучакаса.
Он был постарше меня и получил свое прозвище, которое по-к-
аталонски значит "карман", из-за своего причудливого платья с
невообразимым количеством карманов. Он был симпатичнее других, и
я уже давно обратил на него внимание, но осмеливался взглянуть на
него лишь украдкой. Всякий раз, встречаясь с ним глазами, я зам-
ирал. Безусловно, я был в него влюблен, иначе никак нельзя
объяснить то смятение, которое охватывало меня в его присутствии,
и то верховное место, которое с недавних пор он занимал в моих
грезах, где я уже не мог спутать его с Галючкой или другим
персонажем.
Я не слышал, что сказал мне Букачас. Я был близок к обмороку,
в ушах стоял легкий шум, отделявший меня от звуков внешнего мира.
Но Бучакас раз и навсегда стал моим лучшим другом и при каждом
прощании мы с ним долго целовали друг друга в губы. Ему
единственному я открыл тайну карликовой обезьянки. Он поверил мне
- или сделал вид, что поверил, и в сумерках мы не раз
отправлялись к заброшенному источнику, чтобы снова отыскать
карликовую обезьянку - милый шарик, который в своих фантазиях и
наделял всеми свойствами живого существа.
Бучакас был белокур (я принес домой его волос, настоящую
золотую нить, которую бережно хранил между страницами книги). Его
голубые глаза и розовая кожа были полной противоположностью моей
оливковой бедности, над которой, казалось, нависла тень черной
птицы - менингита, уже унесшего жизнь моего брата.
Бучакас казался мне красивым, как девочка, несмотря на его
толстые коленки и увесистый зад, обтянутый чересчур узкими брюк-
ами. Нестерпимое любопытство подзуживало меня смотреть на его
туго натянутые штаны всякий раз, когда из-за резкого движения
они, казалось, готовы лопнуть. Однажды вечером я открыл Бучакасу
свои чувства к Галючке. И с радостью обнаружил, что он вовсе не
ревнует. И даже обещает мне любить шарик и Галючку так же, как их
люблю я. Крепко обнявшись, мы без конца говорили, как сбудутся
наши мечты. А поцелуй мы приберегали на минуту расставания. С
растущим волнением мы ждали этого трогательного момента. Бучакас
стал для меня всем: я дарил ему свои самые любимые игрушки. Он
забирал их с нескрываемой жадностью. Когда же мои игрушки
иссякли, я стал совершать набеги и на прочие вещи: трубки и
медали отца, фарфоровые статуэтки и, наконец, большую фаянсовую
супницу, которая казалась мне чудесной и поэтичной.
Мать Бучакаса сочла, что этот подарок слишком значительный и
крупный. Она вернула супницу моей маме, которой сразу стало ясно,
почему в доме все необъяснимо пропадает. Я был страшно огорчен и
горько плакал: "Я люблю Бучакаса, люблю Бучакаса". Мама, неизм-
енно терпеливая, успокаивала меня как могла и купила мне
роскошный альбом, в который мы вклеивали сотни превосходных
картинок с тем, чтобы, как только он заполнится, подарить его
моему любимому Бучакасу.
Но подарков становилось все меньше, да и были они теперь не
столь существенны - и внимание Бучакаса остыло. Теперь он играл с
другими детьми и в разгар этих шумных игр уделял мне минуту-
другую. Полного жизни, его день ото дня уносил от меня все дальше
бешеный водоворот - и я терял своего идиллического наперсника.
Как-то вечером я сказал ему, что нашел свой шарик - карликовую
обезьянку. Этой жалкой уловкой я надеялся снова привлечь его
интерес.
И в самом деле, он стал настаивать, чтобы я показал ему
обезьянку и даже проводил меня до самых дверей моего дома, где мы
спрятались у входа на лестницу. Смеркалось. Волнуясь, я вынул
платок с завернутым в него шариком платана, подобранным в лесу.
Бучакас грубо выхватил платок с шариком и выбежал на улицу,
высоко подняв свой трофей и смеясь надо мной. Потом он бросил
шарик. Я даже не выбежал подобрать его. Ведь это был не мой
настоящий шарик. Потом Бучакас плюнул несколько раз в мою сторону
и ушел. Он стал моим врагом. Я проглотил комок и затаился, чтобы
выплакаться вволю.
По-моему, я опять в России, хотя на этот раз не вижу больших
снегов. Вероятно, лето, вечереет, какие-то люди поливают главную
аллею большого парка. Элегантная толпа, состоящая главным образом
из дам, медленно прогуливается по обеим сторонам аллеи. На
помосте настраивает инструменты сверкающий военный оркестр. Медь
отбрасывает такие же ослепительные лучи, как дароносица на
деревенской мессе. Хаос звуков усиливает томительность ожидания.
В годы, когда происходит описываемая сцена, тревога доводила
мня до обмороков и всегда сопровождалась желанием помочиться,
которое разрядилось при первых набегающих тактах "Пассадобля",
разрывающих закат в кровавые лохмотья. В этот же миг неудержимая
слеза обжигает уголок моего глаза - такая же горячая, как и во-
допад, обрушившийся в штаны. Сегодня напряжение удваивается
оттого, что я внезапно замечаю Галючку, забравшуюся на скамью,
чтобы лучше разглядеть парад. В полной уверенности, что она тоже
видит меня, я тут же ныряю за монументальную спину какой-то корм-
илицы и укрываюсь от проницательного взгляда Галючки. Меня
ошеломляет наша неожиданная встреча, мне кажется, что все вокруг
расплывается и я вынужден прислонить голову к опоре - широкой
спине кормилицы. Зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вижу даму
с обнаженными руками и с чашкой шоколада у губ(Впоследствии, в
1936 году, роясь в почтовых карточках на лотке уличного торговца
с набережной Сены, я нашел одну открытку, точно воспроизведшую
мое видение: дама с обнаженными руками и чашкой у губ. ).
Испытываю удивительное чувство отстранения, и это удваивает
остроту моего зрения: и рука дамы появляется передо мной с
невероятной ясностью и детальной точностью. Все это имеет
характер явного бреда.
Я все больше вжимаюсь в спину кормилицы, ритм ее дыхания так
напоминает пустынные пляжи Кадакеса. Я хочу лишь одного - чтобы
настала ночь и как можно быстрее.
Темнота прячет мое смущение, и я могу смотреть на Галючку, не
опасаясь, что она увидит, как я покраснел. Но каждый раз, бросая
на нее взгляд, я замечаю, что она пристально рассматривает меня.
Так пристально, что спина толстой кормилицы становится все тоньше
и тоньше, как стекло, немилосердно открывающее меня этому
сверлящему взгляду. Галлюцинация доходит до того, что я наяву
вижу в спине кормилицы окно. Но оно выходит не на толпу и
Галючку, а на огромный пустынный пляж, откровенно залитый мел-
анхолическим светом закатного солнца.
Внезапно вернувшись к действительности, я вижу ужасное
зрелище. Передо мной уже нет кормилицы. Вместо нее - лошадь с
парада, поскользнувшаяся и упавшая на землю. Я едва успеваю
отскочить и прижаться к стене, чтобы меня не затоптали ее копыта.
Одна из оглобель телеги, которую она тянула, вонзилась ей в бок -
и хлынула густая кровь, пачкая все вокруг. Два солдата бросились
к животному, один поддерживает ее голову, другой двумя руками
вонзает ей нож в лоб. Последняя конвульсия - и лошадь неподвижна,
одна из ее судорожно поджатых ног поднята вверх, к первым
звездам.
С другой стороны Галючка делает мне энергичный знак. Она пок-
азывает мне что-то маленькое и коричневое. Я не смею верить в
чудо. И все же... Мой милый шарик, потерянный у источника,
нашелся. Я смущенно опускаю глаза. Из крайнего замешательства
меня может вывести только героический и совершенно не объяснимый
поступок. Я подхожу к лошадиной голове и крепко целую ее в зубы,
приоткрытые отвислыми губами. Потом, обойдя животное, бегу к
Галючке и останавливаюсь в метре от нее. Тут меня охватывает
новый приступ смущения, и я возвращаюсь в толпу. На сей раз
Галючка сама идет ко мне, отступать уже некуда и я втягиваю
голову в свой матросский воротник, задыхаясь от крепкого запаха
фиалковых духов, которыми он пропитан. Кровь ударяет мне в
голову, когда Галючка слегка прикасается к моей одежде. Я что
есть силы бью ее ногой - и она вскрикивает, хватаясь руками за
коленку. Она отходит прихрамывая и садится в другом конце парка,
на последнем ряду сдвоенных скамеек, у самой стены, увитой
плющом. И вот мы сидим лицом к лицу, до боли прижавшись друг к
другу гладкими холодными коленями. Сбивчивое дыхание мешает нам
говорить. С этого места к верхней аллее ведет длинный подъем.
Дети с самокатами поднимаются по нему и потом с ужасным грохотом
катятся вниз. Какова же моя досада, когда я замечаю среди шумных
мальчишек красное потное лицо Бучакаса! Он уже не кажется мне
красивым, я смотрю на него с неприязнью. И в его глазах читаю
такую же ненависть. Он бросает свой самокат и бухается на мою ск-
амью, нахально крича и смеясь. Мы с Галючкой пытаемся укрыться
между стеной и большим платаном. Так я защищаю ее от вероятной
опасности, а сам остаюсь перед этим сумашедшим, который при
каждом очередном спуске яростно набрасывается на меня. Эта время
от времени обрушивающаяся на нас буря делает особенно приятными
мгновения, когда мы одни. Наши сердца переполнены чувствами. А
томительное ожидание нового штурма Бучакаса только увеличивает
чистоту и страсть нашего восторга.
Галючка играет тоненькой цепочкой, которую носит на шее и,
наверно, хочет этим кокетливым движением показать мне, что к
концу цепочки прикреплено какое-то сокровище.
Из ее лифа и впрямь постепенно показывается предмет, который
я еще не вижу, но надеюсь увидеть. Мои глаза не отрываются от
нежной белой кожи ее выреза, как вдруг Галючка притворно роняет
цепочку - и предмет змейкой ускользает в свой тайник. Она заново
принимается за свою маленькую игру - и берет цепочку зубами, отк-
идывая голову, чтобы приподнять медальон.
- Закрой глаза!
Я подчиняюсь, зная уже, что именно мне предстоит увидеть,
когда я их открою, - мой маленький милый шарик, мою карликовую
обезьянку. Но как только я делаю вид, что хочу его схватить,
Галючка тут же прячет его под блузку.
- Закрой глаза!
Снова я подчиняюсь, зажмуриваясь до боли, а Галючка, взяв мою
руку, настойчиво и нежно направляет ее в глубину своего лифа, и я
прикасаюсь к ее нежной коже. Отскакивает пуговица блузки - и моя
онемевшая рука сковано движется к теплой груди. Наконец я
чувствую горстку блестящих медальонов и выбираю из них мой
потерянный и обретенный шарик.
Но не успеваю я насладиться счастьем, как Бучакас самокатом
сшибает меня с ног и я падаю на четвереньки. Цепочка разорвалась
от удара, и я делаю вид, что ищу под скамейками шарик и
медальоны. Галючка дает понять взглядом, что ее не проведешь, и я
отдаю ей спасенное сокровище, застрявшее в складках моего
матросского галстука. Галючка отходит от меня и садится подле
платана, поглаживая шарик порывистыми и в то же время матерински
нежными движениями.
Отупев от избытка чувств, я прислоняюсь к стулу, заваленному
одеждой двух очаровательных дам, которые сидят рядом и заливисто
хохочут над шутками ухаживающего за ними военного. На другую ск-
амью военный положил красную шинель и шпагу, блестящий эфес
которой привлекает мое внимание. У меня мелькает ужасная мысль о
мести. Ничто в мире не сможет помешать мне совершить
преступление. Приговор обжалованию не подлежит, я холоден, не
чувствую ни малейшего волнения и спокойно поворачиваюсь к спуску,
откуда появляется Бучакас, волоча за собой самокат. Протягиваю
руку к эфесу шпаги, которая легко выскальзывает из ножен. Блестит
полоска металла. Здорово! Бучакас будет жестоко наказан...
Для осуществления своего преступного замысла я должен
действовать осторожно и взвешенно, насколько это возможно при
моей ревности и страсти возмездия. Нужно вынуть шпагу из ножен и
спрятать ее под вещами. Эту операцию необходимо произвести как
можно незаметнее, особенно для Галючки, которая просто ужаснулась
бы, если бы я вздумал посвятить ее в свои жестокие намерения. Но
она не спускает с меня глаз. Как только удастся вынуть шпагу, я
спрячу ее между скамьями, чтобы пустить в ход именно в тот мом-
ент, когда Бучакас со своим самокатом нападет на нас. Уже темне-
ет, он не сможет заранее заметить шпагу, и я сильно раню его. Но
сперва надо отвлечь внимание Галючки, которая следит за каждым
моим движением. Я делаю вид, что хочу подойти к ней, чтобы
отобрать шарик. Удивленная моими решительными действиями, она
ставит между нами стул. Я просовываю голову сквозь прутья спинки
- и вдруг чувствую, что застрял. Мы оба замираем - и смотрим друг
на друга в полутьме, стирающей подробности лица Галючки, ямочки
на ее щеках, локтях и коленках. Вдалеке замолк военный оркестр,
его сменяет назойливое и одинокое уханье совы. Галючка, под
предлогом, что хочет показать мне шарик, совсем расстегивает
блузку. Ее растрепанные волосы в беспорядке падают на лицо, в
уголках губ чуть блестит слюна. Я хочу подойти к ней, но лишь все
глубже увязаю в прутьях спинки, волоча стул за собой. Мои ребра
больно сжаты в ловушке. Галючка с лукавой нежностью подносит
шарик к моим губам и осторожно отводит его. Боль пронзает мой
закованный позвоночник. Галючка снова приближает шарик и отводит
его - это так жестоко, что мне на глаза наворачиваются слезы. В
каждом выражении ее невинного загорелого лица таится язвительная
улыбка. И я набрасываюсь на нее с такой быстротой, с какой
ускоренная съемка позволяет кинематографистам наблюдать
однодневную жизнь цветов. Я наступаю, яростно одержимый желанием
укусить, наконец, горстку медальонов, где прячется мой шарик.
Галючка ловко направляет в мой алчущий рот бесценный предмет и я
одновременно чувствую металлический вкус ребер медальонов и
терпкий - моей собственной крови из пораненых десен.
Вот минута, которой ждет Бучакас, чтобы напуститься на меня.
Удар отбрасывает меня головой к земле, щеку я оцарапал о гравий.
Издав рев, я поворачиваюсь к противнику, чье красное, как
петушиный гребень, искаженное яростью лицо кажется мне
безобразным. Он пятится, чтобы продолжить подъем, но, передумав,
возвращается и ударяет меня ногой. Галючка, тоже ушибленная
стулом, отброшена от меня на метр. У нее на лбу появляется пятно
крови, она бессмысленно смотрит на меня. Ее ноги с бесстыдной
небрежностью приоткрылись, и я впервые замечаю, что она без
трусиков. Легкая, как сон, тень прячет верхушки ног, уходящих в
глубокую тьму юбки. Несмотря на тень, укрывающую ее тело, я
догадываюсь, что там, в глубине, она совсем голая. Она улыбается
мне, и я встаю. На этот раз моя месть не совершилась. Рядом с
нами военный болтает с двумя дамами, они не обращают на нас ник-
акого внимания. Под прикрытием платана никто не видит, как я
вынимаю шпагу из ножен. Обернув руку платком, чтобы не
пораниться, я прячу шпагу за спину и прикрываю эфес своей шапкой.
После первой удачной операции я прячу клинок под тряпки на ск-
амье, чтобы, когда понадобится, сделать выпад в сторону
съезжающего сверху Бучакаса.
Я еще не вполне готов. Но мысленно уже наслаждаюсь
страданиями Бучакаса. Нужно теперь силой своего взгляда удержать
Галючку на месте. После полученного ею удара она вся сжалась и
дрожит. Я уставляюсь на нее, гипнотизируя, и через несколько
секунд чувствую, что она полностью в моей власти.
Теперь не остается ничего другого, как только ждать
следующего спуска Бучакаса и не шевелить шпагой. Он не заставляет
себя ждать. Но на сей раз не лезет в драку. Он слезает с самок-
ата, подходит и, не глядя на меня, спрашивает:
- Где она?
Я не отвечаю. Он и сам прекрасно знает. Обойдя платан, он
застывает в довольно глупой позе и долго рассматривает Галючку,
которая не отводит взгляда от моих глаз и делает вид, что не зам-
ечает его.
- Покажешь мне карликовую обезьянку Дали - и не трону больше,
честно, - говорит он Галючке. Она, вздрагивая, прижимает мой
милый шарик к груди.
- Поиграем? - предлагает он.
- Во что?
Мой ответ заставляет его поверить в наше примирение. Он
смотрит на меня с не приятной мне признательностью.
- В "полицейские и воры".
- Ладно. Поиграем.
Мы обмениваемся рукопожатием. Но в левой ладони я сжимаю эфес
шпаги.
- Кто первый? - спрашивает он.
- Тот, кто выше.
Он тут же соглашается, поскольку знает, что из нас двоих он
более рослый. Мы меряемся, делая две насечки на стволе платана, и
он выигрывает. Теперь мы с Галючкой должны успеть спрятаться,
пока он подымается наверх, чтобы дать нам время. Поднявшись, он
должен спуститься на самокате как можно быстрее. Я настаиваю на
этом, потакая его тщеславию. Бучакас направляется к подъему. Я
смотрю, как он поднимается своей неуклюжей походкой, толстый зад
в узких штанах. И чувствую, как успокаивается мое сознание,
возбужденное угрызениями совести от лицемерного примирения, и
тороплюсь уточнить последние детали своего кровавого плана.
Бучакас оставил отметку на платане - и, таким образом, я могу
точно рассчитать, куда ударить шпагой. Я проверяю устойчивость
стульев, на которых лежит мое оружие.
- Бучакас спускается, - говорю я Галючке. Она подходит ко мне
и я невольно приостанавливаю свои военные приготовления. Чтобы
отвлечь ее, я прошу понаблюдать за Бучакасом, который готовиться
к спуску. Я нежно обнимаю ее, а свободной рукой, почти не
двигаясь, готовлю шпагу. Еле видимое в темноте оружие блестит
холодным благородством и бесчеловечной справедливостью. Уже
слышен шум самоката Бучакаса, катящегося на полной скорости.
Бежим!
Мы бежим, смешиваясь с толпой гуляющих, ударяясь, как слепые
мотыльки, сталкиваясь с ее слишком медленным течением. Первые
такты "Пассадобля" гаснут вместе с вечером. Мы останавливаемся
там, где я видел павшую лошадь. На асфальте огромная лужа крови,
напоминающая большую птицу с распростертыми крыльями. Вдруг
становится так холодно, что нас бьет озноб. Мы ужасно грязны,
запачканы землей, одежда разорвана в лохмотья. Мое сердцу стучит
прямо в обжигающую рану расцарапанной щеки. Я трогаю голову,
украшенную шишкой, это доставляет приятную боль. Галючка см-
ертельно бледна. Вокруг пятна крови на ее лбу появляется
синеватый ореол. А Бучакас? Где его кровь? Я закрываю глаза.